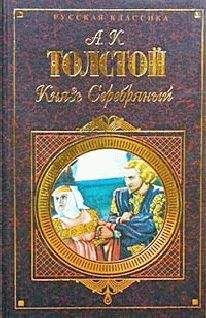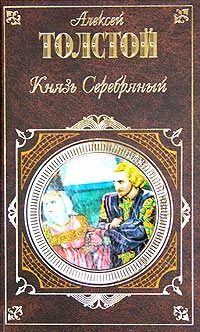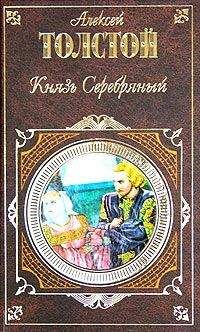Но Годунов успел изучить малейшие оттенки царского нрава и с необыкновенным чутьем отгадывал и объяснял себе неуловимые для других изменения лица его.
Подождав, чтобы Иоанн лег на пуховую постель, и не видя в его чертах ничего, кроме усталости, Борис Федорович сказал безо всяких приготовлений:
- Ведомо ли тебе, государь, что опальник твой сыскался?
- Какой? - спросил Иоанн, зевая.
- Никита Серебряный, тот самый, что Вяземского, изменника твоего, саблей посек и в тюрьму был посажен.
- А! - сказал Иоанн, - поймали воробья! Кто же взял его?
- Никто, государь. Он сам пришел и всех станичников привел, которые с ним под Рязанью татар разбили. Они вместе с Серебряным принесли твоей царской милости повинные головы.
- Опомнились! - сказал Иоанн. - Что ж, видел ты его?
- Видел, государь; он прямо ко мне приехал; думал, твоя милость в Слободе, и просил, чтоб я о нем сказал тебе. Я хотел было захватить его под стражу, да подумал, неравно Григорий Лукьяныч скажет, что я подыскиваюсь под него; а Серебряный не уйдет, коли он сам тебе свою голову принес.
Годунов говорил прямо, с открытым лицом, безо всякого замешательства, как будто в нем не было ни тени хитрости, ни малейшего участия к Серебряному. Когда он накануне проводил его задним крыльцом, он поступил так не с тем, чтобы скрыть от царя его посещение (это было бы слишком опасно), но чтобы кто из слободских не предупредил Иоанна и, как первый известитель, не настроил бы его против самого Годунова. Намек же на Вяземского, выставляющий Серебряного врагом казненного князя, был обдуман и приготовлен Борисом Федоровичем заране.
Царь зевнул еще раз, но не отвечал ничего, и Годунов, улавливая каждую черту лица его, не прочел на нем никакого признака ни явного, ни скрытого гнева. Напротив, он заметил, что царю понравилось намерение Серебряного предаться на его волю.
Иоанн, проливая кровь и заставляя всех трепетать, хотел вместе с тем, чтоб его считали справедливым и даже милосердым; душегубства его были всегда облечены в наружность строгого правосудия, и доверие к его великодушию тем более льстило ему, что такое доверие редко проявлялось.
Подождав немного, Годунов решился вызвать Ивана Васильевича на ответ.
- Как прикажешь, государь, - спросил он, - позвать к тебе Григорья Лукьяныча?
Но последние казни уже достаточно насытили Иоанна; несколько лишних голов не могли ничего прибавить к его удовлетворению, ни возбудить в нем уснувшую на время жажду крови.
Он пристально посмотрел на Годунова.
- Разве ты думаешь, - сказал он строго, - что я без убойства жить не могу? Иное злодеи, подрывающие государство, иное Никита, что Афоньку порубил. А из станичников посмотрю, кого казнить, кого помиловать. Пусть все, и с Никитой, соберутся перед красным крыльцом на дворе. Когда выйду из опочивальни, увижу, что с ними делать!
Годунов пожелал царю доброго отдыха и удалился с низким поклоном.
Все зависело теперь от того, в каком расположении проснется Иоанн.
Извещенный Годуновым, Никита Романович явился на царский двор с своими станичниками.
Перераненные, оборванные, в разнообразных лохмотьях, кто в зипуне, кто в овчине, кто в лаптях, кто босиком, многие с подвязанными головами, все без шапок и без оружия, стояли они молча друг подле друга, дожидаясь царского пробуждения.
Не в первый раз видели молодцы Слободу; приходили они сюда и гуслярами, и нищими, и поводильщиками медведей. Некоторые участвовали и в последнем пожаре, когда Перстень с Коршуном пришли освободить Серебряного. Много было между ними знакомых нам лиц, но многих и недоставало. Недоставало всех, которые, отстаивая Русскую землю, полегли недавно на рязанских полях, ни тех, которые после победы, любя раздолье кочующей жизни, не захотели понести к царю повинную голову. Не было тут ни Перстня, ни Митьки, ни рыжего песенника, ни дедушки Коршуна. Перстень, появившись в последний раз в Слободе в день судного поединка, исчез бог весть куда; Митька последовал за ним; песенника еще прежде уходил Серебряный, а Коршуна теперь под стеною кремлевскою терзали псы и клевали вороны…
Уже часа два дожидались молодцы, потупя очи и не подозревая, что царь смотрит на них из небольшого окна, проделанного над самым крыльцом и скрытого узорными теремками. Никто из них не говорил ни с товарищами, ни с Серебряным, который стоял в стороне, задумавшись и не обращая внимания на множество людей, толпившихся у ворот и у калиток. В числе любопытных была и государева мамка. Она стояла на крыльце, нагнувшись на клюку, и смотрела на все безжизненными глазами, ожидая появления Иоанна, быть может, с тем, чтобы своим присутствием удержать его от новой жестокости.
Иван Васильевич, наглядевшись вдоволь из потаенного окна на своих опальников, насладившись мыслью, что они теперь стоят между жизнью и смертью и что нелегко у них, должно быть, на сердце, показался вдруг на крыльце в сопровождении нескольких стольников.
При виде царя, одетого в золотую парчу, опирающегося на узорный посох, разбойники стали на колени и преклонили головы.
Иоанн помолчал несколько времени.
- Здравствуйте, оборванцы! - сказал он наконец и, поглядев на Серебряного, прибавил: - Ты зачем в Слободу пожаловал? По тюрьме, что ли, соскучился?
- Государь, - ответил Серебряный скромно, - из тюрьмы ушел я не сам; а увели меня насильно станичники. Они же разбили Ширинского мурзу Шихмата, о чем твоей милости должно быть уже ведомо. Вместе мы били татар, вместе и отдаемся на твою волю; казни или милуй нас, как твоя царская милость знает!
- Так это за ним вы тот раз в Слободу приходили? - спросил Иоанн у разбойников. - Откуда же вы знаете его?
- Батюшка царь, - отвечали вполголоса разбойники, - он атамана нашего спас, когда его в Медведевке повесить хотели. Атаман-то и увел его из тюрьмы!
- В Медведевке? - сказал Иоанн и усмехнулся. - Это, должно быть, когда ты Хомяка и с объездом его шелепугами отшлепал? Я это дело помню. Я отпустил тебе эту первую вину, а был ты, по уговору нашему, посажен за новую вину, когда ты вдругорядь на моих людей у Морозова напал. Что скажешь на это?
Серебряный хотел отвечать, но мамка предупредила его.
- Да полно тебе вины-то его высчитывать! - сказала она Иоанну сердито. - Вместо чтоб пожаловать его за то, что он басурманов разбил, церковь Христову отстоял, а ты только и смотришь, какую б вину на нем найти. Мало тебе было терзанья на Москве, волк ты этакий!
- Молчи, старуха! - сказал строго Иоанн, - не твое бабье дело указывать мне!
Но, досадуя на Онуфревну, он не захотел раздражать ее и, отвернувшись от Серебряного, сказал разбойникам, стоявшим на коленях:
- Где атаман ваш, висельники? Пусть выступит вперед.
Серебряный взялся отвечать за разбойников.
- Их атамана здесь нет, государь. Он тот же час после рязанской битвы ушел. Я звал его, да он идти не захотел.
- Не захотел! - повторил Иоанн. - Сдается мне, что этот атаман есть тот самый слепой, что ко мне в опочивальню со стариком приходил. Слушайте же, оборванцы! Я вашего атамана велю сыскать и на кол посадить!
- Уж самого тебя, - проворчала мамка, - на том свету черти на кол посадят!
Но царь притворился, что не слышит, и продолжал, глядя на разбойников:
- А вас за то, что вы сами на мою волю отдались, я, так и быть, помилую. Выкатить им пять бочек меду на двор! Ну что? Довольна ты, старая дура?
Мамка зажевала губами.
- Да живет царь! - закричали разбойники. - Будем служить тебе, батюшка государь! Заслужим твое прощение нашими головами!
- Выдать им, - продолжал Иоанн, - по доброму кафтану да по гривне на человека. Я их в опричнину впишу. Хотите, висельники, мне в опричниках служить?
Некоторые из разбойников замялись, но большая часть закричала:
- Рады служить тебе, батюшка, где укажет твоя царская милость!
- Как думаешь, - сказал Иоанн с довольным видом Серебряному, - пригодны они в ратный строй?
- В ратный-то строй пригодны, - ответил Никита Романович, - только уж, государь, не вели их в опричнину вписывать!
Царь подумал, что Серебряный считает разбойников недостойными такой чести.
- Когда я кого милую, - произнес он торжественно, - я не милую вполовину!
- Да какая ж это милость, государь! - вырвалось у Серебряного.
Иоанн посмотрел на него с удивлением.
- Они, - продолжал Никита Романович, немного запинаясь, - они, государь, ведь доброе дело учинили; без них, пожалуй, татары на самую бы Рязань пошли!
- Так почему ж им в опричнине не быть? - спросил Иоанн, пронзая глазами Серебряного.
- А потому, государь, - выговорил Серебряный, который тщетно старался прибрать выражения поприличнее, - потому, государь, что они, правда, люди худые, а все же лучше твоих кромешников!
Эта неожиданная и невольная смелость Серебряного озадачила Иоанна. Он вспомнил, что уже не в первый раз Никита Романович говорит с ним так откровенно и прямо. Между тем он, осужденный на смерть, сам добровольно вернулся в Слободу и отдавался на царский произвол.