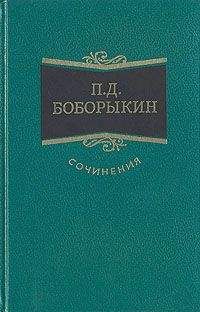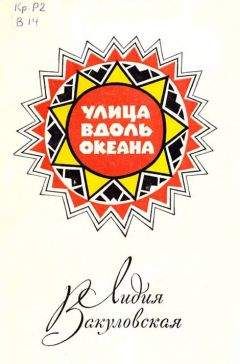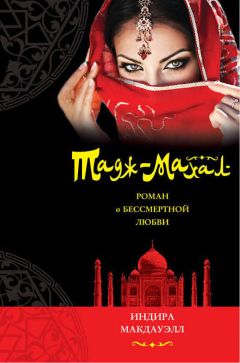— Был, да и теперь еще придется по весне.
— Ну, так я от вас съезжу… и с Иваном Алексеевичем мы обсудим… чего практичнее добиваться для этой Гужо.
— Вот и прекрасно… Какой у вас приятель-то, — указал Калакуцкий Пирожкову на Палтусова. — На все время есть!.. Сделал бы другой?.. Держите карман!.. Андрей Дмитриевич у нас единственный… Вот всероссийская выставка будет на Ходынском поле… Будем его выставлять!.. Mersi, mersi, mon cher… Еще на пару слов… Мочи нет как тороплюсь… Мое вам почтение, — он кивнул Пирожкову и увлек Палтусова в столовую.
Там еще минуты с две слышался его хрип, который то опускался, то поднимался. Оба чему-то рассмеялись и шумно пошли в переднюю.
"Хлестко живут, — думал Иван Алексеевич, располагаясь поудобнее на диване, — в гору идут… Тут-то вот и есть настоящая русская жизнь, а не там, где мы ее ищем… Палтусов и я — это взрослый человек и ребенок".
Но Иван Алексеевич не способен был кому-либо завидовать. Ему надо одно: быть более хозяином своего времени. Это-то ему и не удавалось. Быть может, с годами придет особый талант, будет и он уметь ездить на почтовых, а не на долгих в своих занятиях, в выполнении своих работ.
— Каков… на ваш вкус? — раздался над ним звонкий голос Палтусова.
— Принципал?
— Да.
— Матёр!
— Между нами, — заговорил Палтусов потише, — он ненадежен.
— В каком смысле?
— Зарывается… Плохо кончит…
Иван Алексеевич услыхал тут же целую исповедь Палтусова: как он попал в агенты к Калакуцкому, как успел в каких-нибудь три-четыре недели подняться в его глазах, добыл ему поддержку самых нужных и «тузистых» людей, как он присмотрелся к этому процессу «объегоривания» путем построек и подрядов и думает начать дело на свой страх с будущей же весны, а Калакуцкого "lâcher",[156] разумеется, благородным манером, и сделает это не позднее половины поста. Тогда он начнет иначе, на других основаниях, без татарских замашек, на английский, солидный образец. Да и в Москве есть люди в таком вкусе… Пирожков услыхал имя какого-то Осетрова… Вот это человек! Университетский кандидат, до всего дошел умом, знанием, безупречной честностью. Кредит по всему Волжскому бассейну; без документов наберет сколько угодно денег в Нижнем, Казани, Астрахани… в Сибири… "Вадим Павлыч", одно слово — и кубышки раздаются, и из них текут рубли в руки высокодаровитого предпринимателя.
— Вы с ним уж в деле? — спросил Пирожков, проникаясь удивлением к своему приятелю, к той быстроте, с которой он проник "в мир ценностей и производств", как выражался сам Палтусов.
— Он мне дал два пая в своем последнем крупнейшем предприятии, — конфиденциальным тоном сообщил Палтусов. — Это вздор; но дорого вот что: поддержать с ним связь.
— Фортуну заполучите, — ласково спросил Иван Алексеевич, пристально взглянув на приятеля, — и невинность соблюдете?
Палтусов рассмеялся.
— Вот вам, как духовнику, все рассказал.
Но он забыл или не хотел сообщить Пирожкову того, что накануне Марья Орестовна Нетова, собираясь за границу, поручила ему полной формальной доверенностью заведование своим «особым» состоянием.
— Завлекательно, — выговорил Иван Алексеевич. Палтусов предложил ему закусить. Иван Алексеевич с большой радостью принял предложение.
— Но, любезный друг, — говорил Пирожков, закусывая куском ветчины — они перешли в столовую, — все это так; а конечная цель? Дельцом быть хорошо только до известного предела… для человека, вкусившего, как вы, высшего развития.
Палтусов не смутился.
— Конечно, — согласился он, — что ж! Вы думаете, я, как парижский лавочник или limonadier,[157] забастую с рентой и буду ходить в домино играть, или по-российски в трех каретах буду ездить, или палаццо выведу на Комском озере и там хор музыкантов, балет, оперу заведу? Нет, дорогой Иван Алексеевич, не так я на это дело гляжу-с!.. Силу надо себе приготовить… общественную… политическую…
— Ну уж и политическую…
— А вы как бы думали, Иван Алексеевич?.. Из-за чего же вы все бьетесь?
— Кто все? — кротко спросил Пирожков.
— А вот то, что называется интеллигенцией?
— Да мы не из чего не бьемся, а киснем.
— Ха, ха! Именно! Я не хотел употреблять это слово… Я только временно примазывался, Иван Алексеевич, к университету… Но я вкусил все-таки от древа познания… И люди, как вы, должны будут сказать мне спасибо, когда я добьюсь своего… Если вы все мечтаете о том, что нынче называется «идея», ну представительство, что ли… пора подумать, кто же попадет в вашу палату?
— Палата! — вздохнул Пирожков.
— Кто? Вот от города Москвы? А? У кого в руках целые волости, округи, кто скупает земли, кто кормит десятки тысяч рабочих? Да все те же господа коммерсанты, тот же Гордей Парамоныч! В думе они выкурили дворян! Выкурят и в вашей будущей палате.
— Если такие, как Андрей Дмитриевич, не возьмутся за ум, — прибавил весело Пирожков.
— Без ложной скромности, да-с!.. Палтусов выпил стакан вина.
— Вот такие Калакуцкие ничего не сделают… Это мыльные пузыри… Раздулся в несколько минут и — паф!.. Но Осетров — вот сила… Мне лучшего образца не надо!..
— Хоть бы одним глазком посмотреть на вашего богатыря.
— Познакомитесь… со временем… Вот, дорогой Иван Алексеевич, мой объект.
— Хвалю!
— Так вы нашим приятелям и скажите: из тех, кто в Фиваиде жили… Палтусов, мол, только временно в плутократию пустился… Силу накопляет.
— Приятели! — подхватил с горечью Пирожков. — Я никого не вижу… Просто срам… Такую ослиную жизнь веду, ничего не делаю, диссертацию заколодило.
— Эх, Иван Алексеевич, не одни вы… то же поют… здесь только и можно, что вокруг купца орудовать… или чистой наукой заниматься… Больше ничего нет в Москве… После будет, допускаю… а теперь нет. Учиться, стремиться, знаете, натаскивать себя на хорошие вещи… надо здесь, а не в Питере… Но человеку, как вы, коли он не пойдет по чисто ученой дороге, нечего здесь делать! Закиснет!..
Пирожков только вздыхал.
— Исключение допускаю… для сочинителя, романы кто пишет, комедию… О! здесь пища богатая! Так и черпай!.. А засим прощайте, буду вас гнать — пора и за маклачество приниматься.
Он позвонил и приказал мальчику закладывать лошадь.
— И четвероногих завели? — спросил Пирожков, переходя с хозяином в кабинет.
— Завел, дешевле обходится. А какое же у вас еще дело ко мне?
— Вот оно!.. Я забыл, а вы помните… Поэтому-то вы и достигнете своего; а я с диссертацией-то превращусь в ископаемого, в улитку… И назовут меня именем какого-нибудь московского трактира… Есть "Terebratula Alfonskii". Ректор такой здесь был. А тут откроют "Terebratula Patrikewii". И это буду я!
Приятели поцеловались. Палтусов предложил было сани, но Иван Алексеевич пошел гулять на Чистые пруды. Они условились повидаться на другой же день утром: обработать дело мадам Гужо.
Плохо освещенная зала Малого театра пестрела публикой. Играли водевиль перед большой пьесой. В амфитеатре сидело больше женщин, чем мужчин. Все посетительницы бенефисов значились тут налицо. Верхняя скамья почти сплошь была занята дамами. Они оглядывали друг друга, надевали перчатки, наводили бинокли на бенуары и ложи бельэтажа. Две модных шляпки заставили всех обернуться, сначала на средину второй скамейки сверху, потом на правый конец верхней. У одной бенефисной щеголихи шляпка в виде большого блюда, обшитого атласом, сидела на затылке, покрытая белыми перьями; у другой — черная шляпка выдвигалась вперед, точно кузов. Из-под него выглядывала голова с огромными цыганскими глазами. Две круглых позолоченных булавки придерживали на волосах этот кузов. Пришли еще три пары, всегда появляющиеся в бенефисах: уже не первой молодости барыня и купчихи и при них молодые люди, ражие, с русыми и черными бородами, в цветных галстуках и кольцах.
Кресла к концу водевиля совсем наполнились. В первом ряду неизменно виднелись те же головы. Между ними всегда очутится какой-нибудь проезжий гусар или фигура помещика, иногда прямо с железной дороги. Он только что успел умыться и переодеться и купил билет у барышников за пятнадцать рублей. В бельэтаже и бенуарах не видно особенно изящных туалетов. Купеческие семьи сидят, дочери вперед, в розовых и голубых платьях, с румяными щеками и приплюснутыми носами. Второй ярус почти сплошь купеческий. В двух ложах даже женские головы, повязанные платками. Купоны набиты разным людом: приезжие небогатые дворянские семьи, жены учителей, мелких адвокатов, офицеров; есть и студенты. Одну ложу совсем расперли человек девять техников. Верхи — бенефисные: чуек и кацавеек очень мало, преобладает учащаяся молодежь.
Убогий оркестр, точно в ярмарочном цирке, заиграл что-то после водевиля. Раек еще не угомонился и продолжал вызывать водевильного комика. В креслах гудели разговоры. В зале сразу стало жарко.