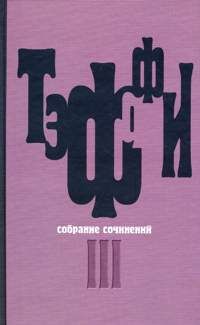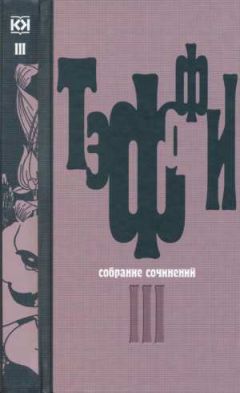— Сколько же раз в день мне не думать?
— Не думать вы должны во время утренней прогулки, в продолжение часа после прогулки, за час до завтрака, в продолжение двух часов после завтрака, за два часа до обеда, в продолжение двух часов после и за два часа перед сном. Спать ложитесь не позже девяти.
— Гм… люди-то в театр ходят.
— Организм требует покоя после заката солнца, если же вы станете вводить в него какого-нибудь «Danseur'a de madame», то обмен веществ будет нарушен.
— Все-таки, знаете, обидно как-то. Все веселятся…
— Вы можете вместо этого вызвать у себя испарину, накрывшись с головой периной. Это не противопоказуется и облегчит работу почек. Самка удода, если вызвать в ней вечернюю испарину, значительно прибавляется в весе и может нести по четыре яйца в день.
— Вот черррт!
— Мы слишком отошли от природы, и природа мстит жестоко. Главное — старайтесь сохранять полное спокойствие и веселое настроение.
— Сам, дурак, сохраняй, если можешь.
— Чего-с?
— Нон, рьен. Се комса.
* * *
— Господа, что такое с Сергеем Александровичем? Такой был милый, когда уезжал, остроумный, интересный. Побывал в курорте, и узнать человека нельзя. Молчит, улыбается, свистит что-то. Идиот идиотом. Мы его звали обедать к девяти. А он говорит:
«Adieu, я потеть должен».
— Гадость какая! И это светский человек! Камер-юнкер!
— У меня вчера его жена была. Марья Николаевна. Такая милочка! Плакала. «Сережа, — говорит, — ездил для обмена веществ, вот ему и обменяли! Такую дрянь подсунули, что хоть плачь! Его, — говорит, — прежнее куда лучше было». Хочет хлопотать, чтоб ему его вещество назад вернули. Ну, да где же уж искать! При нашем беженском положении — кто за нас заступится! Говорят, нужно обратиться в голландское консульство… Ужасно все это грустно! Такая милочка…
Когда приезжают новые беженцы из советской России и рассказывают о близких и знакомых, нас часто удивляет количество браков, иногда совершенно нелепых.
А я всегда думаю:
— Бедные! Как им страшно жить, что они так боятся одиночества!
Помню Петербург. Осень.
Ночь на исходе. Пустые улицы. Что-то чернеет на тротуаре — из окна видно. Словно труп. Скорченный, одна рука вытянута, видимо бежал и упал. И тени какие-то вдоль стен маячат — мотнутся к черному, к трупу, и снова расходятся. А где-то совсем близко стреляют часто-часто. Расстреливают, что ли. Они ведь это всегда на рассвете.
И тянется ночь, и нету ей конца, и все такая же.
Ждешь зари. Бродишь от окна к окну — скоро ли день, скоро ли разглядишь того, черного, скоро ли узнаешь.
Постучать бы кому-нибудь в дверь и сказать:
— Мне страшно!
Только и всего.
А может быть, и еще меньше.
Колыхнулась портьера, звякнула на столе фарфоровая статуэтка об ножку лампы.
— Кошка! Ты?
Теплая, выгибается под рукою, сует голову в широкий мягкий рукав моего платья.
— Холодно? Зверь, милый, близкий. И тебе холодно! И тебя разбудила звериная предрассветная тревога, и все ты понимаешь, и страх у тебя перед тем черным, что лежит на тротуаре, одинаковый, звериный, и тоска та же. Зверь близкий!
Вдвоем-то нам лучше?
* * *
Его я встречала в Москве.
Он был высокий, сутулый, мохрастый, бородастый — такой обычный, что и незнакомые ему кланялись, и знакомые путались — на всех похож, на всех усталых, честных и неудачных, длинного фасона и бурого цвета.
Что он делал — Бог его знает.
Что-то честное и скучное.
Я, помнится, много раз спрашивала, да никак не могла до толка дослушать. Начинал он как-то издалека, крутил, плел все в придаточных предложениях и с историческими датами так, что никогда до конца довести не мог.
Сам, видно, забывал, к чему дело.
— Вы, кажется, в каком-то журнале пишете?
— Видите ли что, в 1882 году, когда еще жив был Владимир Соловьев, которого мне довелось встречать у Николая Петровича, женатого на Софье Андреевне, женщине очень неглупой. Всегда, бывало, говорила мне… и т. д.
И я забывала, что спросила, и он забыл, куда ведет. И так до следующей встречи.
Жил он одиноко в пустой квартире, держал какую-то прислугу, очень сердитую.
— Она еще у вас?
— Да, покуда меня не выгнала.
Ходили слухи, что был он когда-то женат, но его, как и всех честных бурых и бородастых, жена бросила.
Бывал он только в каких-то редакциях, да еще раза три в неделю у общих знакомых — играл в шахматы.
И вдруг пропал.
Собирались узнать, что с ним, да как-то и не собрались.
Недели через четыре пришел сам.
— Где же это вы изволили пропадать?
— Да так, знаете ли, все дела…
— Какие такие дела? Нехорошо друзей бросать. Мы беспокоились.
— Беспокоились?
Он слегка покраснел, помялся и сказал, понизив голос:
— Я не мог. У меня… у меня муха.
— Что?
— Ну… муха. Понимаете? Завелась около окна и летает! Теперь зима, холодно, а она вот… Насчет дров у меня скверно, я спальню запер, а столовую велел топить. Под одеялом ведь довольно тепло.
— Вот чудак! Простудитесь. Вы бы ее тоже в спальню переселили.
— Понимаете — не хочет. Назад летит.
— Ну, допустим, муха — дело серьезное, но почему же вы к нам не приходили?
— Ах, знаете, как-то так… Вот я вчера вечером насыпал ей на стол сахару, она и ела. Сам я пошел в спальню разыскать книгу, а прислуга — прислуга такая грубая — взяла да и погасила лампу. Муха ест, а она погасила. Вы понимаете…
Он рассеянно сыграл обычную партию в шахматы и, торопливо распрощавшись, ушел.
Несколько дней все веселились по поводу мухи. Хозяйка дома, очень остроумная и живая, чудесно передавала в лицах весь разговор.
— Верочка! Расскажите еще про муху! — просили ее.
И она рассказывала.
Но герой рассказа снова пропал. И на этот раз навсегда. Он умер. Умер от воспаления легких. Из газет мы узнали, что он был приват-доцент и знаток каких-то литератур.
Его жалели.
— Бедный! Такой одинокий.
Но я думала:
— Нет. Последние дни свои он не был одинок.
И хорошо. Вдвоем ему было легче.
[текст отсутствует]
[текст отсутствует]
[текст отсутствует]
В августе начинается в Париже мертвый сезон. Saison morte, по выражению Lolo — сезон морд.
Все разъехались. По опустелым улицам бродят только обиженные, прожелкшие морды, обойденные судьбой, обезтрувилленные, обездовиленные и обездоленные.
— Ничего, подождем. Когда там у них в Трувиллях все вымоются и в Довиллях все отполощатся и в прочих Виллях отфлиртуются, когда наступит там сезон морд, тогда и мы туда махнем. У овощи свое время. Подождите — зацветет и наша брюква! Пока что, пойдем на sold`ы покупать обжэ де люксы: ломанную картонку, рыжий берет — последний крик умирающей моды, перчатки без одного пальца, сумочку с незапирающимся замком и платье с дырой на груди.
Купим, уложим и будем ждать, когда наступит на нашей улице праздник. Главное, быть готовым.
Поезда переполнены. Багажные вагоны завалены — в них, кроме обычной клади, возят сундуки с трупами. Переправлять трупы таким образом стало делом столь обычным, что приказчик, продавая сундук, заботливо спрашивает:
— Вам на какой рост?
И покупательница отвечает, опуская глаза:
— Нет, нет. Мне только для платья.
Скоро промышленность отзовется на спрос покупателей и выпустит специальные сундуки с двойным дном и с отделением для льда, чтобы скоропортящийся груз не так скоро «подал голос». Ну да, это местные заботы, и нам, пришельцам, собственно говоря, дела до них нет. Так только из сочувствия интересуемся.
* * *
Уехавшие живут хорошо.
Письма пишут упоительные и соблазняющие.
«Я не мастер описывать красоты природы, — пишет молодой поэт, — скажу просто: восемнадцать франков».
Я заметила странную вещь: все пансионы во всех курортах стоят всегда восемнадцать франков, когда о них говорят в Париже.
Но если вы поедете на место, с вас возьмут двадцать пять.
— Почему же?
— Потому что из вашего окна вид на море.
— Тогда давайте мне комнату в другую сторону.
— Тогда будет тридцать пять, потому что вид на гору.
— Давайте в третью сторону.
— Тогда будет сорок, потому что комнаты, которые выходят во двор, прохладнее и шума в них не слышно. Но в общем, у нас комнаты по восемнадцать франков…
* * *
«Миленькая! Приезжайте непременно. У меня с носа уже слезла кожа — словом, вы будете в восторге. Кругом гуси, утки и можно подработать на конкурсе красавиц — выдают двести франков и швейную машинку».