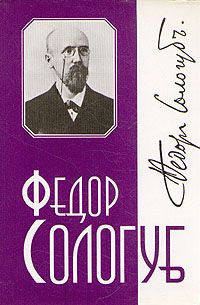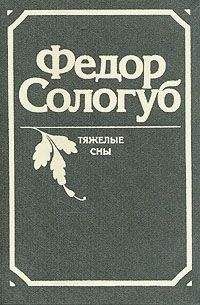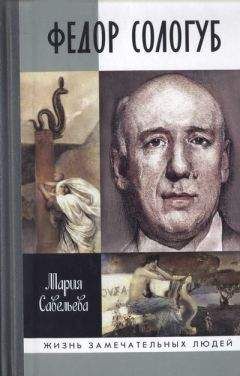— Он очень сердится, — ответил Оглоблин. — Рвет и мечет.
— Да, он весьма раздражен, — подтвердил Гомзин.
— Ну, мне кажется, — сказал Шестов, — сердиться и раздражаться скорее я имею право. Гомзин наставительно стал объяснять:
— Вы должны были иметь в виду, что он теперь так взволнован и огорчен. Вполне естественно, что он сказал что-нибудь резкое. Но он положительно говорил нам, что не сказал ничего оскорбительного.
— Решительно ничего оскорбительного, — подхватил Оглоблин. — Однако, не выпить ли хлебной слезы?
— Налейте, — отрывисто сказал Гомзин и спросил Шестова: — Мы не понимаем, чем же вы недовольны?
Оглоблин налил все три рюмки, взял одну, стукнул ею по краям двух других, потом крикнул:
— Сторонись, душа, оболью!
И выпил. Широкою ладонью обтер губы, зацепил на ложечку брусники и сказал:
— Ну, господа, что ж вы? Не отставайте. Гомзин выпил, сделал такое лицо, как будто проглотил гадость, и пробурчал:
— Этакий сиволдай!
Он потянулся за брусникою.
— Вы не понимаете? — сказал Шестов. — Он в моей квартире вел себя безобразно. Я ему это и написал.
— Нет, позвольте, — сердито возразил Гомзин, — вы должны сказать, чем вы оскорбились. Иначе, помилуйте, что же это будет?
— Да, конечно, — сказал Оглоблин, — нам надо знать, мы все-таки по поручению… ну, и все такое. А то что ж пороть горячку из-за пустяков.
— Да вы какое именно поручение имеете? — досадливо спросил Шестов.
— Да вот, — объяснил Гомзин, — Алексей Иваныч очень раздражен и желает получить от вас объяснение письма.
— Какое ж ему объяснение? Ведь он оскорбил, а не я.
— Да что тут валандаться! — решительно сказал Оглоблин. — Вы на дуэль вызываете?
«А что, — подумал Шестов, — желаю ли я с ним драться, с этим?.. Фи, гадость какая!»
Брезгливо поморщился и ответил:
— Это, кажется, понятно. Уж это от него зависит принять вызов, или извиниться, или еще что выбрать.
— В таком случае, — сказал Гомзин, — нам необходимо знать, что именно вы считаете оскорбительным.
Шестов опустил глаза. Стало совестно рассказывать о вчерашней грубой сцене. Сказал:
— Я просил Василия Марковича Логина принять на себя в этом деле переговоры, — прошу вас к нему обратиться.
Гомзин и Оглоблин переглянулись.
— Ну, этого мы не можем сделать, — сказал Гомзин, — мы еще не получили полномочий.
— Зачем же вы пришли? — спросил Шестов. Взволнованно заходил по комнате.
— Да нам, собственно, надо знать, в чем именно… Шестов говорил бешено-тихим голосом.
— В том именно, что он вчера пришел, когда меня не было, сел на кресло, положил ноги на диван и говорил оскорбительные слова моей тетке. Понятно?
— Позвольте, — сказал Оглоблин, — что ж такое? Ну, он вчера выпил лишнее, ну что ж из того.
— Надеюсь, однако, что вы теперь имеете что сказать Алексею Иванычу, а о прочем обратитесь к Василию Марковичу.
— Хорошо, мы это передадим, — говорил Гомзин, — но еще раз говорю, что Алексей Иваныч раздражен. Впрочем, я уверен, что теперь он снабдит нас достаточными полномочиями. Поэтому я посоветовал бы вам поспешить окончить это дело. Алексей Иваныч шутить не любит. Так вот, мы предлагаем вам взять письмо назад.
— Господа, я просил бы вас прекратить: ведь уж все сказано.
— В таком случае имею честь… Гомзин церемонно раскланялся.
— Имею честь… — также церемонно повторил Оглоблин и вдруг прибавил: — А вы вашей рюмки так и не выпили? Распоясной-то? Вы, может быть, по утрам не употребляете этого крякуна? Я ведь также, но…
— Константин Степаныч! — строго позвал Гомзин.
Он стоял уже в дверях.
— Сейчас, сейчас. Но, видите ли, опохмелиться. Так уж я вашу хлобысну.
— Ну, однако, это черт знает что, — проворчал Гомзин. — Послушайте, Константин Степаныч! Оглоблин придержал рюмку у рта.
— Ась? — откликнулся он.
— Ну чего же один лакаешь, свинья! — энергично выругался Гомзин. — Налей и мне за компанию.
— Это дело, — похвалил Оглоблин.
Он налил Гомзину и поучительно сказал:
— Нет питья лучше воды, как перегонишь ее на хлебе.
Друзья выпили и закусывали. Шестов угрюмо смотрел на них.
— Хорошая брусника! — похвалил Оглоблин.
— Эге! — отозвался Гомзин. Оглоблин опять обратился к Шестову:
— Право, оставили бы, голубчик. Эх, чего там задираться! Возьмите назад письмецо, — вот мы его с собой приволокли. Ась, возьмете?
Оглоблин ласково всовывал в руки Шестова письмо, которое вынул из кармана. Шестов молча отстранился.
— Ну как знаете. А только он очень сердится. Распрощались, ушли.
В тот же день к вечеру Вкусов посетил Логина и объявил ему, что дуэли не допустит.
Нета стояла на одном конце качельной доски, Андозерский на другом. Качались. В этом неудобном положении Андозерский успел объясниться в любви — и получил отрицательный ответ.
— Остановите качели, — сказала Нета.
— Я люблю вас, — повторил Андозерский.
Он стал поддавать слабее, но не останавливался.
— Жалею вас, — насмешливо сказала Нета. Держась за веревки и качаясь, они перекидывались отрывочными восклицаниями.
— Все бы отдал, — страстно восклицал он.
— Пустите! — гневно крикнула Нета.
— Добьюсь любви.
— Довольно!
— Любовь-великая сила.
— Пустите!
— Вы будете моею.
Нета вдруг сильно взмахнула качели. Она и Андозерский стояли с раскрасневшимися щеками и горящими глазами и все сильнее подбрасывали ногами доску, словно состязались в дерзании.
— Ты будешь моею!
— Никогда!
Замолчали. Качель взлетела так высоко, как только позволяли веревочные подвесы. Большие зубцы гипюрового воротника развевались и били Нету по лицу. Вдруг Андозерский заметил, что Нета сильно побледнела; ее глаза загорелись; вся она подвинулась к одному краю доски и как-то странно перебирала руками.
«Спрыгнет!» — догадался Андозерский.
Сильным напряжением задержал взмахи качелей. Нета сделала движение, но прежде, чем успела приготовиться к прыжку, уже Андозерский стоял на земле и удерживал доску. Нета сделала шаг к середине доски. Андозерский схватил ее за талью, снял с доски и поставил на землю. Нета тяжело дышала. Повторила:
— Никогда!
— Увидите! — ответил он.
Она отвернулась, хотела уйти. Он опять схватил ее. Губы его почти касались ее щеки. Но она вывернулась и убежала.
«А, эта не уйдет!» — подумал Андозерский.
Отправился в дом и отыскал хозяина. Их беседа в кабинете Мотовилова была недолга. Потом Мотовилов пришел с Марьею Антоновною.
Когда Андозерский уходил, у него был вид победителя.
— Садись и слушай, — сказал Мотовилов Нете, когда она вошла в кабинет.
— И благодари отца, — прибавила Марья Антоновна.
Нета села на рогатом стуле, зацепилась пышным бантом кушака и стала освобождать его. Не любила этой комнаты с неуютною мебелью.
«Сидел бы сам!» — думала про отца.
А Мотовилов очень удобно развалился на низеньком диване. Рядом важно торчала его коротенькая жена.
— Так вот, мать моя, — сказал Мотовилов дочери, — тебе счастье, — в генеральши метишь.
— Не имею ни малейшего желания, — капризно ответила Нета.
— Я имею сообщить тебе приятную для нас, твоих родителей, новость: Андозерский просит у нас твоей руки.
— Совершенно напрасно хлопочет! — решительно сказала Нета.
Мотовилов строго посмотрел на нее, а Марья Антоновна сказала наставительно:
— Не капризничай, Нета, — он прекрасный молодой человек.
— И на такой хорошей дороге, — подхватил Мотовилов.
— Да я уж люблю другого, — сказала Нета.
— Вздор, мать моя! Выкинь дурь из головы: за Пожарским тебе не бывать!
— А за Андозерского я не пойду!
— Слушай, Нета, — внушительно сказал Мотовилов, — я тебе серьезно советую, — подумай!
— Подумай, Нета, — сказала Марья Антоновна.
— А иначе тебе худо будет. Я из тебя дурь выбью, не беспокойся. И актеру не поздоровится.
Нету подвергли беспрестанному домашнему шпынянью. Отец призывал ее раза по два на день в кабинет и читал длинные наставления, — должна была стоять и слушать.
— Я устала, — сердито сказала она во время одного такого выговора.
— Ну так стань на колени! — прикрикнул отец.
И ей пришлось еще долго слушать его, стоя на коленях.
Мать пилила понемножку, но почаще. Юлия Степановна подпускала шпильки. Видеться с Пожарским Нете не удавалось, но сумела-таки переслать ему записку.
Дня через два Пожарский явился утром и попросил доложить Алексею Степановичу. Горничная, молоденькая, смазливая девушка, вся красная и крупная, рыжеволосая, краснолицая, в красной кофточке и белом переднике, с красными большими руками и с красными ногами, принесла ответ: не могут принять. Пожарский сказал: