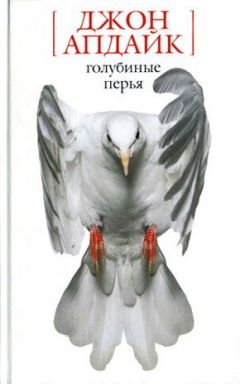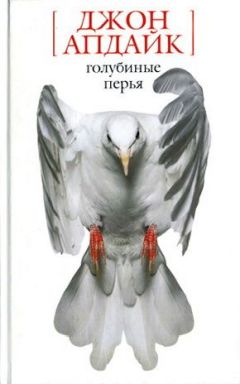Хенрисон, — сообщил он официально.
— Вам что-нибудь известно о ней? — спросила его Джоан. — Когда ее… когда намечена операция?
— По-моему, завтра. Сегодня после обеда только открытое сердце — в два часа. Значит, что-то около шестнадцати пинт.
— Так много… — Джоан была потрясена. — Шестнадцать… Во всем человеке крови, наверно, не больше?
— Меньше, — уточнил стажер, махнув рукой: жест, каким коронованные особы раздают щедроты и одновременно пресекают всякие славословия.
— Можно нам навестить ее? — поинтересовался Ричард, чтобы произвести впечатление на Джоан. («Как не стыдно, ей-богу», — укорила она его, и это на него тогда подействовало.) Он не сомневался в отказе.
— Не знаю, спросите в регистратуре. Как правило, накануне таких серьезных операций пускают только ближайших родственников. Что ж, теперь вам беспокоиться не о чем. — Он имел в виду, что кровотечение им больше не грозит.
У Ричарда на руке осталась небольшая синюшного цвета припухлость, и стажер залепил ее широкой полоской розоватого, намертво приклеивающегося пластыря той особой разновидности, которая используется только в больницах. Это их узкая специализация, подумал Ричард, — упаковка. Профессиональная упаковка всевозможной человеческой пачкотни перед окончательной отправкой в пункт назначения. Шестнадцать кукольных подушечек, темных, пухленьких, аккуратных, как одна дружно марширующих прямиком в открытое сердце. Эта картина тотчас утолила его жажду порядка в космических масштабах.
Он опустил закатанный рукав и, соскользнув с кровати, встал на ноги. Его ошеломило, когда за миг до того, как его ноги коснулись пола, он осознал, что три пары глаз намертво прикованы к нему, завороженные, настороженные, готовые к любому его конфузу. Он выпрямился, возвышаясь над всеми. Попрыгал на одной ноге, целясь в туфлю, потом на другой. Отбил нехитрую чечетку — все, что он вынес из уроков танцев, куда его, семилетнего, возили каждую субботу за двенадцать миль в Моргантаун. Он слегка поклонился жене, улыбнулся старику и сказал стажеру:
— Сколько себя помню, все почему-то ждут, что я вот-вот грохнусь в обморок. Ума не приложу, отчего это. Отродясь в обморок не падал.
Пиджак, пальто — странноватое ощущение: как будто вещи стали более легкими, готовыми с него соскользнуть; но пока он дошел до конца коридора, пространство вокруг него вроде бы пришло в норму, плотно обхватив его со всех сторон. Джоан, шедшая рядом, хранила выжидательно-благоговейное молчание. Через большие стеклянные двери они вышли наружу. Изголодавшееся солнце кое-где прогрызло сплошную пелену хмари. Там позади над ними остался лежать арабский шейх, погруженный в бесконечный сон о барханах, осталась миссис Хенрисон на своей больничной койке, получившая, как коматозная мать от своих детей-близнецов, в дар от Ричарда и Джоан два неразличимых пакета крови. Ричард приобнял жену за толстые накладные плечи и прошептал, пока они шли, прислонясь друг к другу:
— Люблю тебя, слышишь? Люблю люблю люблю люблю тебя!
Романтическое чувство, в двух словах, — это что-то новое, неизведанное. Для Мейплов непривычно было ехать вместе в одиннадцать часов утра. Если они и оказывались в машине бок о бок, то почти всегда затемно. Уголком глаза он видел яркий при свете дня овал ее лица. Она пристально следила за ним, готовая в любую секунду перехватить руль, если он вдруг потеряет сознание. Он испытывал нежность к ней в этом ровном рассеянном свете, а к себе — удивление, прикидывая, какова же глубина, отделяющая его сознание от той черной бездны, которая притаилась где-то там внутри? Он не ощущал в себе перемены, но, возможно, его теперешнее сознание просто не допускало погружения в себя. Что-то же несомненно ушло из него — он стал на пинту меньше, и почему не предположить, что, подобно тому как канатоходца спасает от гибели страховочная сетка, его удерживает в мире света и отражения один-единственный слой из сетчатого переплетения клеток. И все-таки земное, с его гудками, домами, машинами, кирпичами, продолжалось неумолимо, как нота, взятая с нажатой педалью.
Когда Бостон остался у них за спиной, он спросил:
— Где бы нам поесть?
— Поесть?
— Да, давай, а? Хочу пригласить тебя в кафе. Как секретаршу.
— Странно, мне самой кажется, будто я делаю что-то недозволенное. Будто что-то украла.
— Тебе тоже? Так что же мы украли?
— Не знаю. Может, утро? Думаешь, Ева сумеет одна накормить их?
Ева подрабатывала у них приходящей нянькой — миниатюрная рыжеватая девчонка, которая жила на одной с ними улице и должна была, по подсчетам Ричарда, ровно через год превратиться в умопомрачительную красотку. Средний срок службы няньки — три года; берешь ее из десятого класса школы и за руку ведешь в пору расцвета, а через пару лет, сразу после выпуска, она, словно конторская служащая из пригорода, услышав свою остановку, выходит в открывшуюся дверь и исчезает из виду — на курсы сестер-сиделок или в замужнюю жизнь. А электричка идет дальше, впуская новых пассажиров и сама становясь длиннее и старше. У Мейплов детей было четверо: Джудит, Ричард-младший, бедный Джон, несуразно большой, с ангельским личиком, и Пуговка.
— Как-нибудь справится. Тебе чего хочется? После всех разговоров о кофе я просто умираю хочу кофе.
— В блинной на сто двадцать восьмой не успеешь слова сказать, как тебе уже несут чашку кофе.
— Что, блины, прямо сейчас? Шутишь? А нас не стошнит?
— Тебя тошнит?
— Да нет. Я какой-то невесомый и разнеженный, но это, наверное, психосоматика. Не укладывается у меня в голове, как это получается, что ты отдаешь и все-таки остаешься при своем. Как это — меланхолия, что ли?
— Не знаю. Разве меланхолик и сангвиник одно и то же?
— Черт, напрочь все забыл. Какие там еще темпераменты бывают — флегматический и холерический?
— Желчь и черная желчь тоже как-то с этим связаны.
— В одном надо отдать тебе должное, Джоан. Ты у нас образованная. Вообще, в Новой Англии женщины образованные.
— Зато бесполые.
— Ну-ну, правильно. Сперва всю кровь из него выпустим, потом вздернем на дыбу!
Но ярости в его словах на сей раз не было; он не без умысла заставил ее вспомнить об их предыдущем разговоре, чтобы его тогдашние обидные слова можно было как бы невзначай перечеркнуть. И похоже, у него получилось.
В блинной было пусто и тихо — для блинов рановато. Ричард и Джоан сами вдруг притихли и оробели: больше всего это походило на свидание, когда у двоих еще мало общего, но они уже достаточно близки, чтобы спокойно принимать это как данность и не болтать без умолку, лишь бы заполнить паузу. Растроганный синевой от блинов с черникой у нее на зубах, он поднес к ее сигарете спичку и сказал:
— Представляешь, я просто влюбился в тебя там, в донорской.