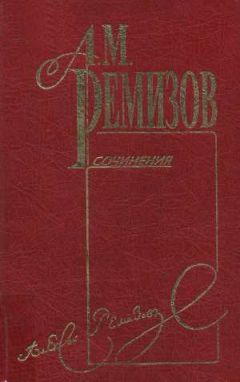. . . . . . . . . . . . . . .
Алексей Максимыч, вы стали судьбой в моей жизни, вы, при всем вашем оттолкновении от моего мира снов, вы разгадали вашим чутьем мою любовь к слову, и я обязан вам моим первым выступлением в литературе.
И разве я это могу забыть?
Алексей Максимыч – в последний путь: вспоминаю вас – вы знали бедность, унижение и отчаяние… вспоминаю наши редкие встречи и очарование, какое легло мне на сердце5. Прощайте!
Горький посвятил Шаляпину «Исповедь»1. Это не «Песня о соколе», не «Буревестник», литература словесной трескотни, оправдываемая лишь добрым желанием «выпрямить» человека, «который – всё и для которого – всё». Именем Шаляпина освещено другое: русская повесть – самое напевное и самое трепетное, вечернее Горького. В слове «Исповеди», прочитанном про себя, слышу голос Шаляпина.
Гоголю в звуках песни слышалась горечь.
Стократная горечь раскованного человеческого сердца закипала в голосе Шаляпина. Шаляпин и есть этот человек, «который всё и для которого всё».
И куда деваться человеку в непроглядный час под дубьем бед и напастей, толкающих и торчащих? И как быть человеку: злая память его безысходна, а мир – сквозь злые слезы? Этого никогда не поймет очерствелое сердце, а выразит не слово, а песня.
И разве могу забыть я те единственные мгновения, когда я слушал, – весь слух, – пение Шаляпина; в его голосе мне было больше моего, он пел о всем человеке.
* * *
Чтобы околдовать душу, не надо говорить, надо петь: музыка! ее это чары. И есть магия слов… но как часто трепет слова заглушается звуком: пожалуй, вернее читать глазами, не выговаривая вслух, – да так ведь и вошли в нашу неизбывную память Пушкин и Лермонтов, не школьным и эстрадным фальшивым чтением, нарушающим ритм – душу стиха.
Слова колдуют, как песня. Но чтобы околдовать душу – чтобы бросить пламя слова, надо голос со всей напоенностью и переливом звуков: музыка! – музыка, это поддонное дыхание, тоньше слова и нежнее мысли.
Никогда еще не было и не запомнят, и только в сказках очарований, такое яркое воплощение; слово и музыка, магия слов – я назову это единственное имя:
ШАЛЯПИН
И это слово, чары слов – русские, непереводимые, как слова поэтов, самоцветы, но светящиеся музыкой, открыты всем. Речистые, они горят, захватывают душу, выпевая русскую музыку.
Голос русской земли – поет Шаляпин – Россия, сказавшаяся на весь мир из глуби своего человеческого сердца словом Толстого и Достоевского.
И какой это голос поет и светит над этим дремучим простором –?
Когда при ясном солнечном небе (говорю словами Дриянского) и этой нетомящей теплоте осеннего дня по темной зелени перелесков играл подсохший лист, поблескивая золотистыми искорками и цепляясь концами за жниво, кругом плавала длинная паутина, ее было столько, что издали, на припоре света, поле было как будто накрыто хрустальным ковром, даль терялась в глубоком тумане, кое-где гуляло стадо по изложинам, курился дымок, две-три бабы вертелись с граблями по жниву, да стрепета свистели крыльями, перелетывая стаями с пашни на пашню, – вот и бабье лето пришло. Спугнутая лисица прокрадывалась по болоту, как тонкий осенний листок стлалась между кочек, то поднимая свою вострую головку, то припадая к земле.
На ранней заре поднялись они. Люди начали садиться на лошадей; собаки радостно взвыли и заметались вокруг охотников. Ловчий со стаей тронулся вперед, за ним поплелась длинная фура с борзыми; доезжачие разровнялись по три в ряд. Раздался свисток. Егорка поправил на себе шапку, тряхнул головой, откашлянул и залился звонким переливистым –
Эх, не одна во поле дороженька
Еще свисток – и двадцать стройных, спетых голосов грянули разом:
Вскоре и эхо в лесу крикнуло нам вслед «эх, зарастала».
Русское солнышко засветило нам с левой руки.
Да, это Россия – вижу ее осенние печальные глаза.
И когда (буду говорить словами Аполлона Григорьева) –
Две гитары, зазвенев,
Жалобно заныли
С детства памятный напев,
Старый друг мой – ты ли?
Когда вы кинетесь к цыганам, броситесь в ураган этих диких странных, томительно-странных песен, и пусть отяготело на вас самое полное разочарование, я готов прокладывать свою голову, если вас не будет подергивать (свойство русской натуры), когда Маша станет томить вашу душу с странною песнею, или когда бешеный неистовый хор подхватит последние звуки чистого, звонкого, серебряного Стешина.
Ах? ты слышишь ли, разумеешь ли?
И это Россия – вижу ее полуденные, наши азиатские глаза, блестящие, в них снег сверкает на солнце в морозный день.
И когда на всенощной в Московском Соборном храме – в Успенском соборе – черные соборяне затянут в унисон темными басами, как вздохнут, столповой распев – память древних русалий и хозарской песни третью славу третьей кафизмы:2
Боже, Боже мой, вонми ми,
вскую остави мя долече!
Это тоже Россия – вижу глаза ее: через тесные головы и ладан томно голубеют от Устюжского золотого образа Благовещения нестеровские – васильковые.
И никто так полно, подлинно не выразил, один Мусоргский, эту Россию полевую, лешую, кабацкую и от всенощной, русский дремучий простор, его щемящий проницательный голос и другой, кроткий, ожидающий чуда, с последней просьбой из последнего отчаяния о капле теплоты сердца. И все эти голоса сошлись в один голос – поет Шаляпин.
* * *
Из моей далекой, но живой московской памяти несется мне голос – моя первая встреча. В сверкающих безумных огнях Врубеля – таким открылся моим, мне колдующим глазам этот, ни на кого не похожий «вольный сын эфира», он пел о тайне Лермонтова. Его воздушный молодой – там не знают века! – с легкостью облаков плыл голос, волнуя –
На воздушном океане,
Без руля и без ветрил,3
Тихо плавают в тумане
Хоры стройные светил
Средь полей необозримых
В небе ходят без следа
Облаков неуловимых
Волокнистые стада.
Час разлуки, час свиданья
Им не радость, не печаль,
Им в грядущем нет желанья,
Им прошедшего не жаль
В день томительный несчастья
Ты о них лишь вспомяни,
Будь к земному без участья
И беспечна, как они!
Петербург. Осень. «Утро туманное…»4 – Тургенев – Гоголь – Павлов – Бестужев – Белинский – – – Блок, и до Волкова кладбища к Литературным мосткам – «Утро туманное, утро седое…».
Петербург. Осень. Театр «Олимпия»5 на Бассейной. Всякий вечер, когда представляют «Бориса Годунова», я простаиваю на райке. Галерка не на верхах, как в театре, а за ложами бенуара – по бокам, видны кулисные колеблющиеся карнизы, «альпийский пейзаж» и наряженные боярские, рыцарские и турецкие головы без лиц.
Но я все вижу, озаренный голосом Шаляпина, я вижу больше: мои глаза, как эта музыка. Вся правдошность легенды, оживая в моем сердце, и как прошлое и как грядущее в единый миг, пламенеет обреченным судьбою человеческим сердцем – железная голова, ясные глаза на месяц, ясным голосом поет во мне.
Месяц едет
Котенок плачет.
И всякий вечер неизменно в антракте мои глаза встречают Блока: Блок в партере.
А «Хованщину»6 я смотрел в Мариинском. Шаляпин всей силой речистого голоса, со всей убежденностью веры подымался огненным протопопом: сам Аввакум! Я различал в его словах магию огненного слова «последней Руси».
«Таже, держав десять недель в Пафнутьеве на цепи, взяли меня паки на Москву, и в Крестовой стязався власти со мною, ввели меня в Соборный храм и стригли по переносе меня и дьякона Феодора, потом и проклинали: а я их проклинал супротив: зело было мятежно в обедню ту тут. И подержав на патриархове дворе, повезли нас ночью в Угрешу к Николе в монастырь… Виждь, слышателю: необходимая наша беда: невозможно миновать. Сего ради соблазны попущает Бог, да же разжегутся, да же убелятся, да же искуснии явлении будут в вас. Выпросил у Бога светлую Россию сатона, да же очервленит ю кровию мученическою. Добро ты, дьяво7л, вздумал, и нам то любо – Христа ради, нашего света, пострадать!»
Голос Шаляпина жив, живет и живит. Я храню его в моем сердце, как и все, кому выпало счастье, а это было подлинное счастье слушать – и слышать и чувствовать.