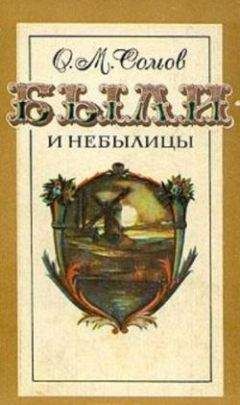— Здравствуйте, препочтеннейший и вселюбезнейший Демид Калистратович! — сказал он, входя в комнату. — Я приехал к вам за важным делом, по поводу, примером будучи, Настасьи Петровны Опариевны. А чтобы пан-отец, какова не мера, не подумал, что я навязываюсь на такую услугу, которой он от меня не ждал и не просил, то у меня готовы и сепаратные пункты: хочу торговать у него мед и воск дапопросить взаймы денег для одного надежного человечка.
Я молчал; да и что мне было отвечать? Отказаться от его услуг — значило как будто бы показать холодность к милой Настусе и заставить навязчивого, всесветного свата подъехать с другим женихом. Он и принял мое молчание в таком виде, как ему хотелось, т. е. счел его знаком согласия; но как тонкий знаток провинциальных приличий искусно переменил разговор и повел бесконечную речь о городских новостях, о сплетнях, шашнях господ судовых и — право, всего не припомню.
К счастию моему, матушка скоро вошла в комнату. Дело между ею и Савелием Дементьевичем сладилось ко взаимному удовольствию: условились, чтобы хитрый сват подкрался к отцу моему с предложением, как бы нечаянно напав на эту мысль. Как сказано, так и сделано. Отец мой, выгодно продав свой мед и воск, стал мягок и уступчив; и хотя сначала неохотно слушал о родстве с Матроной Якимовной, осуждая ее за излишнюю спесь, но когда пан Пере-сыпченко напал на него всею силою деловой своей логики, то батюшка мой начал убеждаться его доводами. Обед и наливки угладили остальные затруднения.
Жребий был брошен; меня обрекли в женихи милой Настуси. Через неделю Савелий Дементьевич должен был приехать для большей важности с другим еще сватом, верным своим подручником, и отправиться к Матроне Якимовне. До этого времени, чтоб рассеять волновавшие меня мысли и сократить минуты ожидания, усерднее прежнего занялся я сочинением моей проповеди. Предметом оной было увещание к братской любви; я грозно восставал против презорства и кощунства мирского и текст выбрал следующий: Блажен человек, иже и скоты милует. Признаюсь, у меня лежал на душе обидный хохот, которым меня чуть не оглушили на свадьбе.
Проповедь кончена, пересмотрена, переписана набело, прочтена моему отцу, одобрена им и сказана мною в следующее воскресенье. Я надеялся произвести ею сильное впечатление в слушателях, особливо в барышнях крохалиевских: надеялся пробудить в них угрызения совести и заставить их внутренне сознаться в тяжком их грехе предо мною; и что же? Барышни перешептывались по своему обыкновению, набожные старушки поминутно клали земные поклоны, не вслушиваясь в порывы моего красноречия; а два-три старичка подремывали под шум моих возгласов. Одна только девушка слушала прилежно и, казалось, угадывала мое намерение; нужно ли доказывать, что это была Настуся Опариевна? Досада моя на невнимательность всех прочих с избытком вознаграждалась ее вниманием, и я не напрасно метал бисер отборных метафор, синекдох и гипербол.
Впрочем, по окончании обедни все паны и паньи крохалиевские забросали моего отца поздравлениями и похвалами моему красноречию, уму и учености. Тут я понял, что с людьми темными и необразованными всегда возьмешь высокопарностью и напыщенным слогом: чем менее они поймут, тем более будут дивиться и расхваливать. Этому и теперь я вижу частые примеры, когда случается мне заглянуть в ваши нынешние журналы да вслушаться в толки наших провинциалов: чем бестолковее суждения и слог журналиста, тем больше предполагают они в его статье ума и глубины. В том-то, думают они, и мудрость: написать так, чтоб никто не понял; а слова подобрать и разместить таким образом, чтобы чтец на каждой строке запинался и переводил дух. Одна красная обертка журнала уже служит для них верною порукой за красноречие издателя.
Настал желанный четверток. В десять часов утра снова колокольчик зазвенел по улице и опять затих перед нашим домом. Погодя немного, вошли наши сваты: Савелий Дементьевич с каким-то приземистым, плотным и краснолицым человечком; оба они были навеселе. Около часа потолковав о деле, мы сели за ранний обед, и он для нетерпеливого жениха бог весть как долго протянулся в потчеваньи да в шутках и прибаутках, которыми рассыпались оба свата. Вышед из-за стола, они почувствовали, что язык их прилипал к гортани. Им отвели особую комнату, через сени, и они легли там отдохнуть, а я между тем занялся своим убранством. Уже я не решился надеть ни красного жилета, ни оранжевого платка на шею: за исключением бессменного моего долгополого сюртука, я старался нарядиться сколько можно ближе к тому, как одеты были городские панычи на свадьбе. Часа через два сваты мои встали как встрепанные. Отслушав вечерню и получа родительское благословение, отправился я с своими сватами в отцовской голубой тарадайке с желтыми и красными мережками прямо к дому Матроны Якимовны Опариихи.
Приезжаем. Босоногая служанка с растрепанными волосами встречает нас и объявляет, что панья просит обождать. Сидим и ждем час и другой; а между тем из ближней комнаты раздаются громкие и бранчивые приказания Матроны Якимовны то тому, то другому из ее домашней челяди.
Я теряю терпение и бодрость; но сваты мои стараются снова ободрить меня своими побасенками и забавными замечаниями насчет всего, что видят в одной комнате и слышат из другой. Наконец является Матрона Якимовна, высокая дородная женщина со вздернутым носом, пухлыми щеками и чванливым взглядом. На голове у ней был шелковый платок, по^ вязанный наколкой, как у городских мещанок; на ногах голубые шерстяные чулки и башмаки без задников, с высокими каблуками; прочий наряд ее составляли шушун и юбка ситцевые с большими разводами ярких цветов да клетчатый бумажный платок на шее. Несмотря на то, ни одна знатная дама, во всем блеске пышности и убранства, не приняла бы нас так сухо и спесиво, как Матрона Якимовна.
Старший сват, т. е. Савелий Дементьевич Пересыпченко, повел речь обиняками, чуть ли не от сотворения мира, и заключил ее сими замечательными словами: «От власти божией не уйдешь. Старое стареет и валится, а молодое цветет да молодится. Примером будучи, сказать вот и об вашей дочке: уж хоть куда невеста. Такой дорогой товар не залежится у матушки на руках. А вот у нас и купец находится: кланяемся вам и просим вашей ласки к нам и нашему жениху».
Матрона Якимовна сделала какую-то двусмысленную ужимку губами и молча указала нам на стулья; мы сели. Минуты две-три она как будто собиралась с мыслями; наконец начала говорить протяжным голосом и с длинными остановками, более как бы вслух рассуждая сама с собою: «Конечно, мне нечем укорить и сватов и жениха… Сваты люди хорошие, в офицерских чинах; бесчестья никому не сделают… Жених человек молодой и видный, имеет звонкий и явственный глас; я это слышала прошлое воскресенье в обедню… И дом очень достаточный; он же всему один наследник… Только можно ли тому быть, чтоб моя дочка, Анастасия Петровна Опариевна, сделалась попадькой!..»
— Почему же нельзя, матушка Матрона Якимовна? — спросил старший сват.
— Статочное ли дело! Дедушка ее, Гордий Афанасьевич, был Стародубского полка канцеляристом; батюшка ее, Петр Гордиевич, служил в генеральном суде регистратором. Сама я тоже не простого рода: покойные мои родители, с тех пор как свет стоит, слыли панами… А дочь мою стали бы величать попадькой!.. Нет! тому не бывать.
— Да ведь духовный чин тоже чин, препочтеннейшая Матрона Якимовна! Вспомните, что от начала веков людизнатные выдавали дочерей своих за людей духовного звания. Лаван, примером будучи, был знатный господин, потому что у него были свои рабы, по-русски, так сказать, крестьяне; а Лаван выдал обеих дочерей своих за Иакова, который был, как Писание гласит, патриарх, следовательно, духовного звания.
— А я вам скажу, — отвечала Матрона Якимовна решительным тоном, — что хотя бы дочь мою сватал за себя патриарх цареградский, от которого в прошлом году бродил здесь какой-то греческий чернец и собирал вклады на церковь, то и этому патриарху отказала бы я и слова не сказала.
— Однако позвольте вам сказать, многомилостивая государыня Матрона Якимовна, что родитель нашего нарекаемого жениха, отец Калистрат, тоже дворянин и по силе реченного звания владеет землями и всякими угодьи…
— Да без крестьян. Какое уж это панство, когда и своих людей нет?
— Истинно так, препочтеннейшая Матрона Якимовиа! Вот у вас, примером будучи, благодаря бога, душ пять-шесть ревизских наберется. Из них, помнится, двое в бегах, один умер, да еще один отдан в рекруты; а все-таки с подростками и малолетными можно будет насчитать душ восемь мужеска пола. У отца Калистрата, конечно, этого нет; зато у него есть другое благословение божие, из которого мог бы он купить порядочный хуторок, примером будучи, душ в пятьдесят наличными.
— Верю, что мог бы, когда бы сына своего повел не по духовному званию, а записал бы где-нибудь в статскую службу, особливо в губернском городе. Тогда и у нас пошло бы дело на лад: за дворянина в офицерском чине я просватаю свою дочку; а просто за поповича, не прогневайтесь, нет! велико слово, нет!