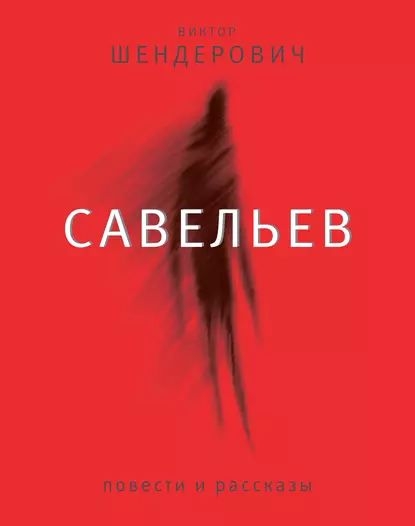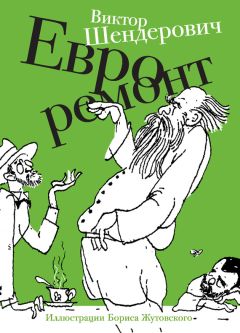часов.
Когда я ложусь, Ирка еще возится на кухне. Полежав немного в темноте, не выдерживаю, шлепаю к ней. Господи, второй час — затеяла делать Чудищу творожок!
Ирка, обернувшись, заглядывает мне в глаза и молча тычется в ключицу носом. Нос этот, между прочим, хлюпает.
Я обнимаю ее; сквозь пижамку легко проступают детские ребрышки и лопатки. Что-то почти забытое, сладкое затопляет мое сердце.
— Я люблю тебя, скелетина моя.
— А ты — моя, — бурчит Ирка.
— Какой же я дурак, — шепчу я.
— Угу, — соглашается Ирка, почесывая кончик носа о мою шею.
Глава III. Суббота
Эта пыточная машина — наш будильник — сделает меня заикой.
Семь двадцать. В темпе, Дмитрий Олегович! Сегодня опаздывать никак нельзя. Слава богу, бриться не надо: в нашем доме слышно, о чем шепчутся через этаж, а у меня электробритва.
В холодильнике — одна тоска. Или, если быть совсем точным, две тоски: пельмени и маргарин. Ладно, не графья, перетопчемся. Завтракаю чаем и бубликом, обкусанным накануне дочкой. Жизнь становится желанной, и я даже начинаю напевать — до тех пор, пока не вспоминаю, куда еду.
Выйдя, тихонько поворачиваю ключ в замке.
Автобус не идет, народ стоит хмурый, словно не я один — все едут на похороны. Стою, изучаю вчерашний «Труд» на стенде. Ох, неудобно будет, если опоздаю: напросился и не приехал… Бедные родители. Он ведь один у них, кажется. Один. Не хочу даже думать, каково им сейчас. К черту! Лучше почитаю «Известия», про принципиальный спор Карпова с Каспаровым в защите Грюнфельда.
Что за сон снился мне? Что-то вроде запаха или ощущения еще живет во мне, но хвостик слишком мал, чтобы за него ухватиться, — сон был тревожный и как-то связанный с сегодняшним днем, с Пашкой, но сюжет распался невосстановимо. Мне часто снятся тревожные сны. Один я хорошо помню, он повторялся несколько раз с точностью киноленты: сон про начало следующей войны. Об этом тоже лучше не думать.
Ладно, выбросили из головы и забыли! Что сегодня, кроме похорон?
Воспоминание о припеве отзывается зубной болью и тошнотой. Зачем я ввязался в это дело? Откуда возьму эти четыре строчки? Может, позвонить Пепельникову и послать его куда-нибудь… в сторону Добронравова? Но тогда выходит, зря я тужился, рожал «могучую поступь»? И потом — двести рублей. Черт возьми эти деньги! Переводы не печатают — вон, уже полшкафа скопилось, а узнают про халтуру, начнут носы воротить: фу, как стыдно!
Гадость надо дописывать, и дописывать сегодня. И от метро не забыть позвонить Пепельникову. Похороны кончатся часам к трем — ехать на поминки или нет?
Косицкой — не дозвонился! Черт возьми, у нее же было какое-то дело, вечером — не забыть, не забыть, не забыть! Все равно забуду. Нет, это невыносимо. Дома все вверх дном, писать не успеваю, пробивать не умею, в зубах дырки уже год… Вот хватит меня кондратий иванович — что останется потомкам? Из шедевров — только Чудище, и то в соавторстве.
Военкомат стоит в глубине казенного скверика с выкрашенными серебрянкой урнами по углам. На этажах пусто, дверь военкомата открыта — и там, у входа, три фигуры. Они! Вот только этого бородача я не знаю.
— Здравствуйте.
Пашина мама смотрит на меня, не узнавая, потом мелко-мелко кивает головой. По лицу ее разлито совершенное безразличие к происходящему.
— Привет, — Лев Яковлевич возбужденно трясет мою руку. — Видишь, ерунда какая получается — нет машины.
— Да, — отвечаю я. Совершенно не представляю, как себя вести, что говорить.
— Обещали, что все организуют… — Лев Яковлевич, словно оправдываясь передо мной, разводит руками. Еще несколько минут мы слушаем, как что-то объясняет по телефону массивный полковник и что-то объясняют ему.
Ждем около получаса. Лев Яковлевич без остановки ходит по пустому вестибюлю, Ольга Алексеевна сидит недвижно, смотрит в одну точку где-то за окном. Маленький бородач, тиская в руках спортивную шапочку, бесшумно покачивается на стуле.
— Да что ж такое? — взрывается наконец Пашин отец. — Когда же будет машина?
Дежурный поднимает на него бесцветный взгляд, означающий: он при исполнении и торопить его, если надо, будет начальство, а не всякие тут…
— Левушка, — с неожиданной нежностью говорит Ольга Алексеевна. — Левушка, не надо. Я прошу тебя.
И я вздрагиваю, увидев на ее лице уже забытую мной Пашину улыбку.