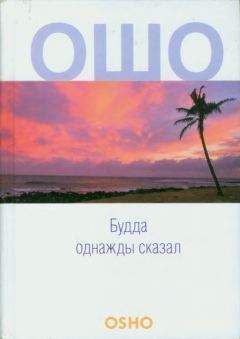Когда я выхожу из караулки, караульщик тоже выходит и зажигает фонарь возле церковных ворот. Из-под горы идет мужик, порывисто падая вперед, — очень пьяный, — и на всю деревню кричит, ругает самыми отборными ругательствами дьякона. Увидав меня, с размаху откидывается назад и останавливается:
— А вы его не можете ругать. Вам за это, за духовное лицо, язык на паяло надо вытянуть.
— Но позволь: я, во-первых, молчу, а во-вторых, почему тебе можно, а мне нельзя?
— А кто ж вас хоронить будет, когда вы помрете? Не диакон разве?
— А тебя?
Уронив голову и подумав, мрачно:
— Он мне, собака, керосину в лавке коперативной не дал. Ты, говорит, свою долю уж взял. А если я еще хочу? «Нет такого закону». Хорош ай нет? Его за арестовать, собаку, надо. Теперь никакого закону нет. — Погоди, погоди, — обращается он к караульщику, — и тебе попадет! Я тебе припомню эти подметки! Как петуха зарежу, — дай срок!
…Октябрь. Пошли плакаты, митинги, призывы.
— Граждане! Товарищи! Осуществляйте свой великий долг перед Учредительным собранием, заветной мечтой вашей, державным хозяином земли русской! Все голосуйте за список № 3!
Мужики, слышавшие эти призывы в городе, говорили дома:
— Ну и пес! Долги, кричит, за вами есть великие! Голосить, говорит, все будете, все, значит, ваше имущество опишут перед Учредительным собранием! А кому мы должны? Ему, что ли, глаза его накройся? Нет, это новое начальство совсем никуда! В товарищи заманивает, горы золотые обещает, а сам орет, грозит, крест норовит с шеи сорвать. Ну, да постой, дай срок: кабы не пришлось голосить-то тебе самому в три голоса!
Сидим, толкуем по этому поводу с бывшим старостой, не богатым, середняком, но справным хозяином. Он говорит:
— Да, известно, орут, долгами, недоимками пугают. Все это… как его? Теперь царя нету. Теперь вот будем учредительную думу собирать, будем, говорят, кандидата выбирать. Мы, есть слух, будем кандрак составлять, мы будем осуждать, а он будет подписываться. Когда где дорогу провесть, когда войну открыть, он, будто, у нас должен теперь успроситься. А разве мы знаем, где какая дорога нужна? Я вот богатый человек, а я отроду за Ельцом никогда не был. Мы вон свою дорогу под городой двадцать лет дерьмом завалить не можем, как сойдемся — драка на три дня, потом три ведра водки слопаем и разойдемся, а буерак так и останется. Опять же и войну открыть против какого другого царя я не могу, я не знаю: а может, он хороший человек? А без нас, говорят, нельзя. Только за што ж за это кинжал в бок вставлять? Это бог с ним, и с жалованьем, в этой думе!
— Да то-то и дело, — говорю я, — что жалованье-то хорошее.
— Ну? Хорошее?
— Конечно, хорошее. Самый раз тебе туда.
Думает. Потом, вздохнув:
— Меня туда не допустят, я большевик: у меня три десятины земли купленные, две лошади хорошие…
— Ну вот, кому же, как не тебе, и быть там? Ты хозяин.
— Конечно. Я хозяин настоящий.
Подумав и оживляясь все более:
— Да! Это было бы дело! Я бы там свой голос за людей хорошего звания подавал. Я бы там поддержал благородных лиц. Я бы там и ваше потомство воспомнил. Я бы не дал у своих господ землю отбирать. А то он, депутат-то этот, себе нажить ничего не мог, а у людей черт его несет отымать самохватом. Вон у нас выбрали на село, в волость, а какой он депутат? Ругается матерком, ничего у него нету, глаза пьяные, так и дышит огнем вонючим. Что он там может сказать? Орет, а у самого и именья-то одна курица! Ему дай хоть сто десятин, опять через два дни «моряком» будет. Разве его можно со мной сменить? Копал, копал в бумагах, а ничего не нашел, стерва поганая, и читать ничего не может, не умеет, — какие такие мы читатели? Всякая овца лучше накричит, чем я прочитаю…
Беседует со мной об Учредительном собрании и Пантюшка, самый страстный во всей нашей деревне революционер. Этот — ярый защитник Учредительного собрания. Но и он говорит очень странные вещи. Он говорит мне:
— Я, товарищ, сам социал-демократ, три года в Ростове-на-Дону всеми газетами и журналами торговал, одного «Сатирикону» небось тысячу номеров через мои руки прошло, а все-таки прямо скажу: какой он, черт, — министр, хоть Гвоздев-то этот самый? Я сер, а он-то много белее меня? Воротится, не хуже меня, в деревню — и опять мы с ним одного сукна с онучей. Я вот лезу к вам нахрапом: «товарищ, товарищ», а, по совести сказать, меня за это по шее надо. Вы вон в календарь зачислены, писатель знаменитый, с вами самый первый князь за сто может сесть, по вашему дворянству… Я и то мужикам говорю: ой, ребята, не промахнитесь! Уж кого, говорю, выбирать в это Учредительное собрание, так уж понятно товарища Бунина. У него там и знакомые хорошие найдутся, и пролезть он там может куда угодно…
Серый ненастный день, конец октября. Пробираюсь по грязной деревенской улице, вхожу в сенцы, в избу. Старуха лежит на печи, солдатка, ее невестка, спит на нарах. Старик на конике плетет лапоть. Сумрак, вонь, на полу под ногами чмокает мокрая и гниющая солома. Такие будни, такая глушь и тишина, точно я в шестнадцатом столетии, а не в бурную эпоху «великой российской революции», перед выборами в «великое Учредительное собрание». Сев на лавку, закурив, говорю, шутя:
— Что ж, старуха, к выборам-то готовишься? Ведь предвыборная кампания, собственно, уже началась.
Отвечает довольно злобно:
— К каким это выборам? Какая я тебе кампания?
— Да ведь я тебе уж десять раз рассказывал. Вот к таким-то и к таким-то.
Помолчав, старуха отвечает твердо, непреклонно, с той свободой грубости, которая позволительна в силу вашей старой дружбы, и приблизительно в таких выражениях:
— Понимаю, что шутишь. Только чтоб тебе подеялось за эти шутки. Никакая баба, кроме любопытных дур девок, которым лишь бы придирка была нарядиться для сборища, да кроме самых непутящих баб, не пойдет на этот срам. Громом их сожги, эти выборы. Спихнули такие-то, как ты, забубённые господа да беглые солдаты царя, — вот увидишь, что теперь будет! И теперь хорошо, а то ли еще будет! То ли еще будет! Увидишь!
— А ты, старик?
Но и старик отвечает очень твердо:
— Меня, батюшка, на аркане туда не притащишь, там мне старую голову проломят, если я не туда, куда хочется им, этот квиток пожелаю просунуть. Пропала, батюшка, Россия, помяни мое слово, пропала. Мы не можем.
— Что не можем?
— Не можем себе волю давать. Взять хоть меня такого-то. Ты не смотри, что я такой смирный. Я хорош, добёр, когда мне воли не дано. А то я первым разбойником, первым разорителем, первым вором окажусь. Недаром пословица говорится: «Своя воля хуже неволи». Нет, батюшка, умру, а не пойду. Главная вещь — голову проломят ребята.
Солдатка проснулась, раскрыла ясные глаза, сыта сном, чуть улыбается, тянется, чувствуя, что я смотрю на нее.
— А ты пойдешь?
— Вона! Обязательно! Я Кабелька не боюсь… Какого Кабелька, что за Кабелек? А это бушевал на нашей деревне все лето и всю осень семнадцатого года один из этих беглых солдат, о которых говорила старуха. Целый день пьян и целый день бегает по деревне. Увидит меня — и ко мне: «Табаку!» — «Да ведь у тебя есть». — «Турецкого давай, турецкий слаже!» Увидал, что в церковной ограде народ собрался возле двух приехавших из города девиц, производящих, во исполнение приказания какого-то нового министра из нашего брата, «забубённых господ», какую-то перепись, — сейчас туда: подбежал, стол ногой к черту, вверх тормашками, на девиц с кулаками, на мужиков — тоже, орет неистовым голосом: «Долой, так-то и так вас! Расходись! Не дозволю! Подо что подписываетесь? Под крепостное право подписываетесь? Перебью всех — скройся все с глаз моих!» И так все лето, всю осень. Все разгоняет. Разогнал даже выборы от мирян и духовенства на церковный собор: «Долой, расходись! Вот мой брат с фронта придет — он вам всю эту новую службу по церквам сам установит!» Пять раз за лето сельский сход собирали, хотели «окоротить немножко» — и пять раз напрасно: боятся «окоротить» — сожжет всю деревню…
Девятого ноября 1933 года, старый добрый Прованс, старый добрый Грасс, где я почти безвыездно провел целых десять лет жизни, тихий, теплый, серенький день поздней осени…
Такие дни никогда не располагают меня к работе. Все же, как всегда, я с утра за письменным столом. Сажусь за него и после завтрака. Но, поглядев в окно и видя, что собирается дождь, чувствую: нет, не могу. Нынче в синема дневное представление — пойду в синема.
Спускаясь с горы, на которой стоит «Бельведер», в город, гляжу на далекие Канны, на чуть видное в такие дни море, на туманные хребты Эстереля и ловлю себя на мысли:
— Может быть, как раз сейчас, где-то там, на другом краю Европы, решается и моя судьба…
В синема я, однако, опять забываю о Стокгольме.
Когда, после антракта, начинается какая-то веселая глупость под названием «Бэби», смотрю на экран с особенным интересом: играет хорошенькая Киса Куприна, дочь Александра Ивановича. Но вот в темноте возле меня какой-то осторожный шум, потом свет ручного фонарика, и кто-то трогает меня за плечо и торжественно и взволнованно говорит вполголоса: