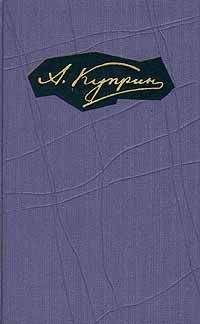Стал я понемногу поправляться. Однажды мой доктор и говорит: «Слушайте, сэр, не все же вам без дела околачиваться; у меня есть для вас в виду место. Хотите поступить конторщиком в «Южную звезду»?» — «Помилуйте, с руками, ногами!» — «Ну, так отправляйтесь туда завтра к одиннадцати часам, спросите хозяина и скажите, что от меня пришли. Он уже знает».
Поступил я в гостиницу и немного вздохнул. Обязанность легкая — сиди и пиши отъезжающим счета. Жалованья двадцать пять рублей, стол, чай — хозяйский, номер, правда, под лестницей, как у Хлестакова, но все-таки номер, свое логово. Оглядевшись, я еще несколько на счетах наживал. Делалось это очень просто: жильцу пишешь счет преувеличенный, а в книгу заносишь настоящий — разницу себе. Недоразумения выходили очень редко. Случалось, вломится в контору какой-нибудь ольгопольский помещик в парусиновом балахоне и начинает делать гармидер, а ты ему моментально с любезной улыбкой: «Ах, да неужели? Такому почтенному гостю? О, это мы сейчас же расследуем… Знаете, сто двадцать номеров, суматоха…» Заговоришь его, он и размякнет.
А все-таки положение было довольно утлое. Стал я понемногу оглядываться вокруг себя и вдруг вижу, что лакеи в сто раз лучше моего живут. Худо-худо четыре-пять рублей в день заработают, а то шесть, семь — даже десять, при удаче. И надо отдать справедливость, ко мне они относились довольно-таки санфасонисто [39].
Подумал я, подумал, и вот как-то раз освободилась одна лакейская вакансия, пошел я к хозяину и попросился. Тот сначала было глазами захлопал. «Помилуйте, вы — бывший офицер, вам ведь «ты» будут говорить: да, знаете, и мне будет неловко с вами обращаться, как с официантом, а делать разницу — вы сами понимаете — неудобно». Но я его успокоил тем, что открыл ему часть моей жизни — не самые, конечно, темные места, но все-таки рассказал кое-какие приключения. Согласился. Умный был мужик.
На первых порах крепко меня лакеи утесняли: все-таки вроде как благородный, был офицером, недавно в конторе барином сидел. Но ненадолго. Во-первых, я и сам с острыми зубами, а во-вторых, есть у меня дорогая способность: во всякую жизнь вживаться. И еще чем я внушил им уважение — это познаниями по судебной части. У лакеев постоянно дела у мировых судей и в съезде. Все больше в области дебоша и неуплаченных счетов.
Трудно также было привыкать к службе. Лакейское дело только с виду кажется таким легким. Прежде всего целый день торчишь на ногах — бывают дни, что и присесть некогда. Старые лакеи меня, впрочем, с самого начала учили, что лучше и совсем не садиться, а то разомлеешь и весь разобьешься. Первое время, когда я приходил домой, так ныла спина и ноги, что хоть кричи.
Потом память нужна особая: на какой стол подаешь, что на кухне заказано, сколько марок за буфет надо отдать, а когда счет потребовали, надо все сразу вспомнить. Перепутаешь — сердятся.
Но и тут я скоро освоился и стал работать не то что не хуже, а даже лучше других. Страшно меня полюбили постоянные гости, особенно те, которые в кабинеты ездили с порядочными дамами. Должно быть, оттого, что был я в жизни все-таки поопытнее прочих. Знаю свое дело: глаз не пялю на даму, без дела в кабинет не лезу, у двери не торчу, держу себя скромно и свободно. Другой и старый официант, зубы проел на лакейском занятии, а не понимает, как в этих случаях надо служить. Ведет себя каким-то заговорщиком, чуть не подмигивает. Лезет без спросу занавески спускать в окнах. «Мы, мол, понимаем, для чего вы приехали. Понимаем, но молчим». Ну, а я всю эту политику скоро постиг. Любили меня и те компании, в которых широко кутили. Бывало, навезут певичек, шансонеток этих самых. Такие безобразия делают, что другой только плюнул бы, а я ничего — служу, точно вокруг меня не люди, а неодушевленные предметы. И мои гости так обыкновенно и говорили официантам: «Нет, голубчик, на тебе лучше на чай, а ты ступай и позови сюда служить Андрея, мы к нему привыкли».
Когда у нас в гостинице кончались ужины, то у буфета оставался только один дежурный лакей, на случай если из номеров что потребуют. А мы, большею частью, фраки в узелки и уходили в ресторанчик «Венецию» посидеть час-другой, поиграть в карты и на бильярде.
Как мы там с прислугой обращались, боже мой! Развалимся на стульях, ноги чуть не на стол положим. «Эй, ты, лакуза! шестерка!» Других и названий не было для служащих. «Не видишь, с… сын, кому служишь? Какой ликер принес? В морду вас бить, хамов». Тот, конечно, видит, что над ним кочевряжится свой же брат, холуй несчастный, но, по должности, молчит. И на чай при этом мы давали туго.
Ух, как мы господ промеж себя чихвостили, которые к нам в ресторан ходили. Да ведь и то, правду сказать, господа думают, что мы — вроде манекенов, ничего не видим, не слышим и не понимаем. А от нас ничто не скроется. И кто на чужой счет выпить любит, и кто деньги тайком от товарищей в узелок платка завязывает или потихоньку в башмак опустит, и что один про другого говорят в отсутствие. А уж если дама в кабинет пришла сначала с одним мужчиной, а потом с другим, то, будьте покойны, мы отлично разберем, который муж и который так. И не было у нас для них других слов, как сволочь, шантрапа и прохвост.
Еще у нас был любимый разговор о хозяевах гостиницы: как кто из них пошел в гору. Вот где я узнал настоящие «Тайны мадридского двора»! Что ни имя — то преступление: грабеж, убийство или еще хуже.
Не угодно ли, вот вам коллекция. Ищенко: отель «Берлин», первоклассная гостиница, в ресторане по вечерам играют румыны, двадцать тысяч чистого дохода. И сейчас же историческая справка: служил швейцаром в публичном доме, через три года открыл темный кабачок, через пять — «Берлин», теперь держит своих рысаков на бегах. Замечательно, что именно в том доме, где он был швейцаром, видели в последний раз помещика Оноприенко, который — может быть, помните? — исчез бесследно. По этому поводу держали Ищенко шесть месяцев в тюрьме, но выпустили по недостатку улик.
Цыпенюк и Лещенецкий. Один держит буфеты на пароходах, другой — гостиницу «Варшава». У обоих собственные дома. Цыпенюк — гласный. У Лещенецкого — содержанка венская этуаль. А раньше оба служили коридорными в «Киеве». При них один купец из Москвы скоропостижно скончался в номере и как будто не по собственному почину. Цыпенюка схватили, — царапины у него оказались на руках и на лбу, — мариновали в остроге полтора года, но ничего не могли с ним поделать: уперся, как бык. Тоже выпустили.
Теперь — Казимир Хржановский. Сад «Тиволи» с кафешантаном. Ездит на автомобиле. Занимался сводничеством; трех своих сестер пустил в оборот, каждую по пятнадцатому году, чем и положил основание дальнейшей карьере. Нагурский был на содержании у шестидесятилетней старухи. Малиевич — меблированный дом на Большой Дворянской, триста номеров — то же самое, только еще хуже, стыдно говорить, И так далее. Словом, все «Уложение о наказаниях» в лицах. Да и вообще, должен заметить, что я в эти рассказы о мужичках-простачках, которые приходят в столицу с лаптями за спиной, а умирают в тридцати миллионах, — я в эти рассказы плохо верю. В фундаменте таких внезапных богатств лежит всегда мошенничество, если не кровь.
Вы думаете, мы их осуждали? О, наоборот. Только, бывало, и слышишь: «Эх, молодчинище, как ловко обтяпал! Чего зевать? Дай мне в руки такой случай, я бы и сам по голове кокнул!» Разгорались мы все, когда об этих вещах говорили.
VI
Особенно один. Был у нас такой официант, Михайла, хохол… Виноват, господин буфетчик, сейчас кончаем. Пожалуйста, господин, меня он не послушает, а вы попросите у него еще одну бутылочку, последнюю. Скажите, что, мол, единым духом. Сейчас и истории моей конец…
Вот так. Мерси. Чего ты, болван, на часы вылупился? Слышал — хозяин разрешил. То-то!
Ире гезундхейт! [40] Был этот Михайла человек сложения жидковатого, характером — меланхолик, по происхождению — из Мазеп. Обожал до безумия церковные службы; все, бывало, мурлычет: «Изра-илю пеше-ходя-ащу». Говорить много не любил, но когда эти разговоры пойдут, его и силой не оттащить. Да ка́к, да что́, да куда деньги спрятали — даже надоест иногда. И глаза станут черные такие, масленые. Служил он лакеем в первом этаже.
Почему я так ему понравился, уж не умею сказать. Должно быть, общая у нас судьба была, и потому тянуло нас друг к другу. Стали мы с ним как будто от прочих товарищей уединяться. И все у нас разговор об одном, все об одном. И наконец мы оба в этих разговорах последний стыд потеряли. Некоторым образом вроде как голые ходили друг перед другом. Настоящего слова еще не сказали, но уже чувствовали, что нам даром не разойтись.
А я к тому времени опять прихварывать начал. Перемогался изо всех сил. Случалось — подаю на стол, вдруг как забьет меня кашель. Сначала держусь, а потом, когда не станет возможности, брошу приборы на стол и бегом в коридор. Кашляю, кашляю, даже в глазах потемнеет. Этаких вещей ведь в хороших ресторанах не любят. Ты, скажут, или служи, или ступай в больницу ложись. Здесь не богадельня. У нас публика чистая.