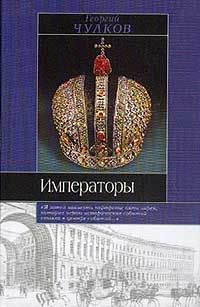Незадолго до помолвки князь А. Ф. Орлов, на правах царского наперсника, доложил Николаю Павловичу, что гессен-дармштадтская принцесса – незаконная дочь камергера Граней. Николай, усмехнувшись, сказал: «А мы-то с тобой кто? Пусть кто-нибудь в Европе попробует сказать, что у наследника русского престола невеста незаконнорожденная!»
Николай Павлович, кажется, не очень любил сына. Ему не нравились в Саше его сентиментальность, слезливость, а главное, его ленивая апатия. Он подумывал иногда об устранении сына от престола. Однажды в параде он до того забылся, что перед всеми обругал его непристойно. «Другой раз, заехав к нему на дачу под Петергофом и застав его играющим среди дня в карты разбранился и тотчас уехал, но через короткое время вернулся и, видя, что игра продолжается, надавал сыну пощечин».
Когда Николай Павлович, после некоторых колебаний, решил в конце концов не отстранять от престола сына Александра, он, зная по горькому опыту, как трудно управлять государством без подготовки, заставил наследника присутствовать на заседаниях Государственного совета и Комитета министров. Кроме того, наследник участвовал в секретном комитете по устройству быта крестьян. Во время поездки Николая Павловича по России цесаревич заменял своей персоной отца: ему предоставлено было высшее управление государством.
Николай Павлович всецело мог довериться сыну, потому что у будущего царя-«освободителя» в то время, то есть с 1848 до 1854 года, не было вовсе критического отношения к политической и государственной программе отца. Он был, однако, в каком-то смысле «правее» отца – по крайней мере, в крестьянском вопросе он был тогда врагом эмансипации. Он был даже врагом тех «инвентарных правил», которые были введены в Польше и до некоторой степени стесняли произвол помещиков.
Для ознакомления с военными действиями Николай Павлович отправил в 1850 году наследника на Кавказ. Путешествие было парадное, пышное, со встречами и проводами. В сущности, войны он здесь не увидел вовсе. Только в Дагестане он был свидетелем боевой схватки с чеченцами. Александр Николаевич не утерпел и поскакал на своем кровном коне за цепь, через перелесье, под огнем неприятеля. Свита помчалась за ним, и князь Воронцов, ехавший в коляске, потому что его душил кашель, вынужден был тоже сесть на лошадь и тоже скакать за храбрецом, страшась, что какая-нибудь шальная пуля пробьет череп цесаревичу. Но дело кончилось благополучно, и, по представлению Воронцова, Николай Павлович пожаловал сыну Георгиевский крест.
И надо сказать, что Александр Николаевич, так впоследствии страшившийся революции, в личной жизни был человеком храбрым, несмотря на свойственную ему мягкость характера и слабость воли. «Пред лицом настоящей опасности, – рассказывает в своих мемуарах П. А. Кропоткин, – Александр II проявлял полное самообладание и спокойное мужество, и между тем он постоянно жил в страхе опасностей, существовавших только в его воображении. Без сомнения, он не был трус и спокойно пошел бы на медведя лицом к лицу. Однажды медведь, которого он не убил наповал первым выстрелом, смял охотника, бросившегося вперед с рогатиной. Тогда царь бросился на помощь своему подручнику. Он подошел и убил зверя, выстрелив в упор (я слышал этот рассказ от самого медвежатника). И тем не менее Александр II всю жизнь прожил под страхом ужасов, созданных его воображением и неспокойной совестью».
Впрочем, Петру Алексеевичу Кропоткину надлежало бы знать, что «ужас», наводивший страх на императора, не всегда был «создан его воображением»: в подпольной России, как известно, не дремали, и семь серьезных покушений могли устрашить какого угодно храбреца с железными нервами. Но, кажется, П. А. Кропоткин не угадал самого главного в этом «страхе» императора. Дело тут было не в физической опасности, мнимой или реальной, а в том чувстве надвигающейся катастрофы, которое внушает человеку безумный страх перед непонятностью грядущих событий.
Царствование Александра II все было под знаком катастрофы. Когда в феврале 1855 года умер Николай Павлович, передав сыну «команду не в добром порядке», как он сам выразился, положение России было ужасно. Если почитать мемуары и письма того времени, – они все исполнены мучительной тревоги, возмущения и смятения. Принять русскую корону в час, когда вся Европа, вооруженная и озлобленная, была против России, в час, когда внутри страны, утомленной полицейским николаевским режимом, не было никакого доверия к правительству, – это ли не страшно? Это ли не ужасно?
Вера Сергеевна Аксакова, женщина неглупая, интересная, между прочим, в том отношении, что в ее личности отразился целый мир тогдашней дворянской культуры в ее славянофильском уклоне, превосходно запечатлела в своем дневнике тревогу тех трудных дней. Она то и дело обращается к особе Александра II, стараясь угадать и оценить его намерения и решения. Когда она впервые услышала, что умер Николай Павлович, она была потрясена. «Не могу пересказать то впечатление, которое произвели эти слова на всех нас. Мы были подавлены огромностью значения этого неожиданного события… Чего ждать, что будет, как пройдет эта минута смущения? Не пойдет ли все прежним или даже худшим порядком или вдруг переменится все направление, вся политика? И, может быть, Бог ведет Россию к исполнению ее святого долга непостижимыми своими путями!..»
На другой день она пишет: «И точно, подтвердилось все это событие. Сегодня возвратились из города наши крестьяне, возившие туда продавать свои дрова. Они привезли ту же весть. В Москве вчера уже все присягнули. На вопрос, какие вести в Москве, – „царь помер“, – отвечал один из них. „Вчера загоняли весь народ в церковь присягать. Все церкви были отворены, казаки разъезжали по всему городу с объявлением и гнали народ в церкви“. – „Что же народ желает?“ – Крестьянин как-то улыбнулся и сказал: „Не знаю…“ Все невольно чувствуют, что какой-то камень, какой-то пресс снят с каждого, как-то легче стало дышать; вдруг возродились небывалые надежды; безвыходное положение, к сознанию которого почти с отчаянием пришли наконец все, вдруг представилось доступным изменению. Ни злобы, ни неприязни против виновника этого положения. Его жалеют, как человека, но даже говорят, что, несмотря на все сожаление о нем, никто, если спросить себя откровенно, не пожелал бы, чтобы он воскрес».
А между тем продолжалась осада Севастополя, и, несмотря на мужество наших солдат, все чувствовали, что его дни сочтены, что судьба готовит последнее испытание ревнителям национальной государственности. «По-видимому, то же бессмыслие, которое наложило свою печать на наш политический образ действий, – писал тогда Тютчев, – присуще и нашему военному управлению. И не могло быть иначе. Подавление мысли уже давно было руководящим принципом нашего правительства. Последствия подобной системы не – могут иметь пределов. Ничто не было пощажено. На всем отразилось это давление. Все и все сплошь одурели… Известия все плохие, и чувствуется по их глупейшим бюллетеням, что они совершенно растерялись. Мне кажется, что никогда с тех пор, как существует история, не было ничего подобного: империя, целый мир рушится и погибает под бременем глупости нескольких дураков».
А В. С. Аксакова в своем дневнике продолжала ревниво следить за всеми событиями и слухами о новом императоре. Она негодует, что негодяй Нессельроде все еще у власти, радуется, что Клейнмихель, живой символ николаевской системы, удален. Ей не нравится тоже Ростовцев. «Как противны его разные приказы, в которых он будто бы с простодушной, смелой и благородной откровенностью рассказывает во всеуслышание все действия, движения государя при представлении генералов, слова государя к нему, то есть Ростовцеву, с каким чувством он, то есть Ростовцев, поцеловал руку государя, как государь, сделав два шага вперед, сказал то-то, и в голосе были слезы… Потом зарыдал, потом сказал то и то, и опять в голосе были слезы, словом сказать, представил государя совершенно шутом».
В сентябре новый царь приехал в Москву. Та же В. С. Аксакова рассказывает, как брат Константин видел Александра Николаевича и что в это время болтали в народе. «Был тут также один человек (вроде какого-то эмиссара, как показалось Константину), который шутил совершенно по-русски, трунил над всеми, всех смешил и говорил разные дерзкие выходки насчет всех, появлявшихся на Красном крыльце. Наконец появился государь с государыней под руку. Ура кричали недружно… Государь так худ и печален, что Константин говорит, что нельзя его было видеть без слез, он представился ему какой-то несчастной жертвой, на которую должно обрушиться все зло предшествовавшего царствования И сверх того он также жертва воспитания этой гибельной системы, от которой не может сам освободиться. Государь кланялся не низко, как все заметили в народе. Тут Константин услыхал, как тот же подозрительный человек сказал: „Одному человеку такая честь!“»