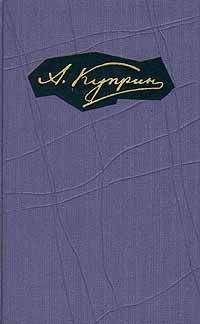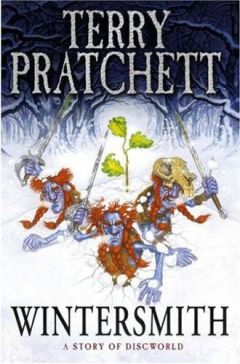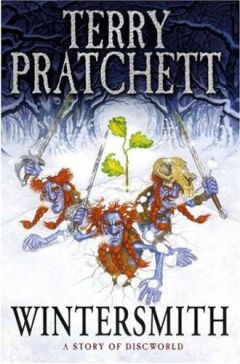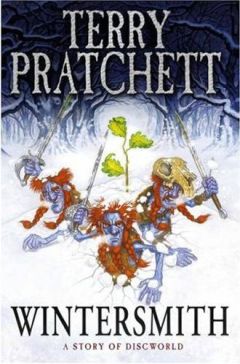1. Черепаха
Казино в Монте-Карло. Вечер. Все столы тесно облеплены. Долговязый, усатый, длиннорукий итальянец делает свои ставки, перегибаясь через передние ряды. Он суетлив и горячится. Больше всего его раздражает жена, короткая, толстая, добрая женщина. Она все шепчет ему беспрестанно на ухо советы. Он отмахивается от нее, как от мухи. Наконец остатки терпения вовсе покидают его.
— Ты говоришь — двенадцать? На! Он ставит на этот номер сразу все свои жетоны. На! Шарик пущен. Минута тишины. Короткая женщина тыкает в кого-то от «сглаза» выпрямленными двумя пальцами: мизинцем и указательным.
— Тринадцать! — возглашает крупье, — нечет, черное, первая половина… Итальянец мгновенно оборачивается к жене. Его лицо пылает яростью, сжатые кулаки подняты над головой и трясутся.
— О! Тарртаруга! — вопит он на весь зал.
— О! мой дорогой! — лепечет она воркующим голосом. — О, mio carissimo! — И нежно трется щекой о его рукав.
Когда миновали Евпаторию, поднялся ветер, вскоре перешедший в настоящий шторм. Пароход «Св. Николай», эту старую калошу, мотает с борта на борт и с носа на корму. Всех пассажиров укачало. Все умирают; одни умирают в салоне, другие в каютах, третьи в коридорах. Единственная неприятная сторона морского пути.
Один только маленький, очень юркий человек не теряет присутствия духа. Он вытащил всю свою семью на палубу, вместе с подушками и одеялами. Семья — человек из восьми, от старых: тещи и мамаши — до грудного младенца. Все они, кроме младенца, лежат покотом и стонущими голосами, на чем свет стоит, ругают старательного маленького главу семьи.
А он так трогателен! Ведь и его самого берет проклятая морская болезнь. Но он держится героически. Вот что-то приказала ему предсмертным голосом одна из толстых старух, и он стремглав летит зигзагообразно к трапу, мгновенно проваливается в нутро парохода, так же быстро показывается на палубе и, едва успев бросить семье какие-то шарфы и теплые платки, вихрем несется к борту. Там он секунды на две перегибается через буковый поручень в виде вопросительного знака и уже опять спешит к милой семье, встречающей его горькими упреками за то, что он ее постоянно покидает. Затем его посылают за лимоном, затем за валерьянкой. Затем, как некий жонглер, он приносит две рюмки коньяка, стараясь не расплескать. Ах! он совсем бы был готов забыть о себе, если бы не эта всемогущая власть моря, которая ежеминутно и беспощадно напоминает о себе и все-таки не в силах сокрушить воли этого пигмея.
У него простое, доброе, веснушчатое лицо. Я думаю, что он, не задумываясь, бросился бы за борт, чтобы спасти утопающего, и в панической толпе сумел бы сохранить ребенка. Энергия и прелесть характера создали бы ему тихую уютную жизнь и мирный отдых в старости. Но всю жизнь свою он обречен провести, подобно вьючному верблюду, с мозолями на всех сочленениях, питаясь чертополохом и бранью.
Соотечественник в вагоне подземной дороги. Оба мы читаем одну и ту же газету. Как-то сам собою зацепляется разговор. Соотечественник высок, массивен, лохмат и весь как будто расстегнут, начиная от души и кончая штанами, которые он постоянно поддергивает обеими руками вверх. Случайно дошли до перелома морали после войны. Об этом вопросе соотечественник не может говорить сидя. Он вытягивается во весь рост, простирая руки, как мельничные крылья. Ему нет никакого дела до того, что он кричит на весь вагон, да еще по-русски. Чужое мнение — один из тех пустяков, которых он не замечает.
— Все дело в нарастающей злобе! — восклицает он. — Зло — это вовсе не отвлеченное понятие! Зло — это одна из тех вещественных эманации, которые вырабатывает человеческий мозг и посылает в пространство. Будущая телехимия откроет природу зла. Она даже взвесит его и, наверно, найдет, что удельный вес зла в своей сфере гораздо тяжелее удельного веса ртути. Злоба, отчаяние, страдания так грозно и так густо обволокли землю и давят ее такой тяжестью, что их не рассеют никакие ураганы. Оттого-то малая война порождает большую, а большая великую. И вот уже больше, кажется, некуда идти. Капут мирозданию. И нет никакого разрешения. Вы знаете, как перед грозою бывает душно и томно и как тяготит ожидание. Но вот пошел дождь, сверкнула молния, загрохотал гром. Прошла гроза, и сразу стало так свежо, так радостно дышать — блаженство! Что же произошло? Да просто: положительное электричество земли встретилось с отрицательным электричеством облаков, и, во славу божию, они оба разрядились с пальбой и иллюминацией. А для зла, понимаете ли? Не существует никакой разрядки. Оно только и делает, что накопляется и нависает грузом. Вон Шопенгауэр говорит, что лишь зло позитивно, а добро негативно, потому что оно состоит только в неделании зла. Врет колбасник! По его выходит, что и камень добр, и деревянный чурбан добр, ибо они не делают зла? И каждый холодный, равнодушный ко всему на свете человек тоже добр, ибо ни разу не соприкоснулся с Уложением о наказаниях? Отрицательная величина вовсе не величина, а ересь! Но есть, есть, богом клянусь — есть могучая, прекрасная, великая сила для потребления и нейтрализации зла как физической субстанции (в это время поезд свистит и замедляет ход). Это — горячая любовь к человеку, это живое, ощутимое добро, разливаемое охотно и радостно повсюду, это добро воинственное, невзирая на его целительную мягкость и мужественную скромность (дверцы вагона раздвигаются). Это вам не клистирная филантропия-с, а радостный, сладкий, самоотверженный и легкий подвиг! Вот что разрядит вековые залежи зла! Он выпрыгивает из вагона и, вместе с перроном, начинает уплывать налево, налево…
Но я еще вижу, как, поддерживая одной рукой сползающие штаны, а другою размахивая над головой, он кричит мне вслед: «Подвиг! Подвиг любви! Положительная сила!»
В вагоне все косятся на меня, а я раздумываю: «Сумасшедший? Пророк? Философ?»
«Aux quatre leviers»[20] — вот как бы на месте хозяина назвал я кабачок на углу улиц Успения и Доктора Бланш.
Здесь, на этом перекрестке, расположены на двадцати квадратных аршинах: церковь, родовспомогательная клиника и трактир, которые вместе обслуживают ход четырех вечных рычагов жизни: рождение, любовь, насыщение и смерть — весь круговорот человеческой зыбкой жизни.
Но, увы! хозяин, к сожалению, не могильщик и не шлифовщик оптических стекол — он очень далек от философии, что, однако, не мешает ему быть достойным буржуа.
Сегодня утром послали меня в этот кабачок купить немолотого кофею. Пока мне отвешивали покупку, я увидел очень простое и трогательное зрелище. На крошечном, усыпанном гравием дворике родильного дома как-то растерянно и неуклюже топтались двое мужчин. Видно было, что они незнакомы. Один — высокий с непокрытой головой; длинные, светлые волосы гладко зачесаны назад; общее впечатление: медлительный, недоверчивый, чувствительный и обидчивый человек. Другой — сангвиник; у него блестяще-черные волосы с легкой проседью, красные щеки, блестящие черные глаза; низкий и широкий, он строением похож на плотный крепкий куб; мягкая шляпа надвинута на самую переносицу, а из-под ее полей торчат в стороны жесткие, прямые усы, на которых легко уселись бы две канарейки.
Невольно казалось, что оба связаны неразрывно общей тревогой и в то же время мучительно стесняются друг друга. Право же, в эти минуты они напоминали мне двух мальчуганов, которые ранним росистым утром на берегу резвой речонки нерешительно пробуют голыми ступнями студеную воду, и каждый выжидает момента, когда у другого хватит храбрости бултыхнуться.
Так они довольно долго толкались, мялись и крутились по скрежетавшему гравию, то преследуя, то избегая друг друга, беспомощные и нетерпеливые. Наконец кубический сангвиник отважился первый.
Он круто повернулся; мелкими, но быстрыми шагами вышел на улицу; оглянулся зорко налево и направо (все в порядке, улица пуста), пересек наискосок улицу и затем, не умеряя спешного хода, не оборачиваясь назад, вошел через каменные ворота в церковную ограду, в глубине которой весело зеленели кусты. Светловолосый, как будто привязанный невидимой ниткой, послушно шел за ним. Он шагал редко, но длинно и притом так высоко поднимал долговязые ноги, что поразительно напоминал большую птицу из породы голенастых, идущую пешком. Они одновременно поднялись по трем каменным ступеням. Брюнет первый открыл тяжелую боковую дверь церкви, любезно попридержал ее для блондина, и дверь закрылась за ними.
Через десять минут они вышли на улицу, теперь уже в полном согласии, быстрым взором убедились в том, что никто их не заметил, и дружелюбно направились к кабачку. Ведь они-то, наверно, друг друга никогда не выдадут; и ничто не повредит их репутации мужественных граждан и свободных мыслителей, чуждых суевериям и предрассудкам.