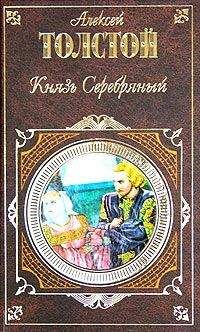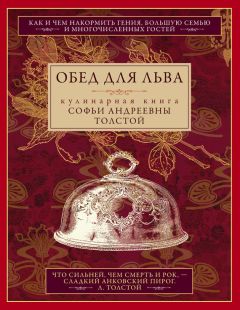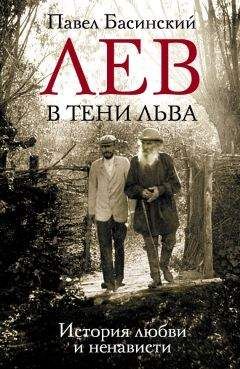Единственною светлою стороной Малюты казалась горячая любовь его к сыну, молодому Максиму Скуратову; но то была любовь дикого зверя, любовь бессознательная, хотя и доходившая до самоотвержения. Ее усугубляло любочестие Малюты. Происходя сам от низкого сословия, будучи человеком худородным, он мучился завистью при виде блеска и знатности и хотел, по крайней мере, возвысить свое потомство, начиная с сына своего. Мысль, что Максим, которого он любил тем сильнее, что не знал другой родственной привязанности, будет всегда стоять в глазах народа ниже тех гордых бояр, которых он, Малюта, казнил десятками, приводила его в бешенство. Он старался золотом достичь почестей, недоступных ему по рождению, и с сугубым удовольствием предавался убийствам: он мстил ненавистным боярам, обогащался их добычею и, возвышаясь в милости царской, думал возвысить и возлюбленного сына. Но независимо от этих расчетов кровь была для него потребностью и наслаждением. Много душегубств совершил он своими руками, и летописи рассказывают, что иногда, после казней, он собственноручно рассекал мертвые тела топором и бросал их псам на съедение. Чтобы довершить очерк этого лица, надобно прибавить, что, несмотря на свою умственную ограниченность, он, подобно хищному зверю, был в высшей степени хитер, в боях отличался отчаянным мужеством, в сношениях с другими был мнителен, как всякий раб, попавший в незаслуженную честь, и что никто не умел так помнить обиды, как Малюта Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский.
Таков был человек, над которым столь неосторожно издевался царевич.
Особенный случай подал Иоанну Иоанновичу повод к насмешкам. Малюта, мучимый завистью и любочестием, издавна домогался боярства; но царь, уважавший иногда обычаи, не хотел унизить верховный русский сан в лице своего худородного любимца и оставлял происки его без внимания. Скуратов решился напомнить о себе Иоанну. В этот самый день, при выходе царя из опочивальни, он бил ему челом, исчислил все свои заслуги и в награждение просил боярской шапки. Иоанн выслушал его терпеливо, засмеялся и назвал собакой. Теперь, за столом, царевич напоминал Малюте о неудачной его челобитне. Не напомнил бы о ней царевич, если бы знал короче Григорья Лукьяновича!
Малюта молчал и становился бледнее. Царь с неудовольствием замечал неприязненные отношения между Малютой и сыном. Чтобы переменить разговор, он обратился к Вяземскому.
– Афанасий, – сказал он полуласково, полунасмешливо, – долго ли тебе кручиниться! Не узнаю моего доброго опричника! Аль вконец заела тебя любовь – змея лютая?
– Вяземский не опричник, – заметил царевич. – Он вздыхает, как красная девица. Ты б, государь-батюшка, велел надеть на него сарафан да обрить ему бороду, как Федьке Басманову, или приказал бы ему петь с гуслярами. Гусли-то ему, я чай, будут сподручнее сабли!
– Царевич! – вскричал Вяземский, – если бы тебе было годков пять поболе да не был бы ты сынок государев, я бы за бесчестие позвал тебя к Москве на Троицкую площадь, мы померялись бы с тобой, и сам бог рассудил бы, кому владеть саблей, кому на гуслях играть!
– Афонька! – сказал строго царь. – Не забывай, перед кем речь ведешь!
– Что ж, батюшка, господин Иван Васильевич, – отвечал дерзко Вяземский, – коли повинен я перед тобой, вели мне голову рубить, а царевичу не дам порочить себя.
– Нет, – сказал, смягчаясь, Иван Васильевич, который за молодечество прощал Вяземскому его выходки, – рано Афоне голову рубить! Пусть еще послужит на царской службе. Я тебе, Афоня, лучше сказку скажу, что рассказывал мне прошлою ночью слепой Филька:
«В славном Ростове, в красном городе, проживал добрый молодец, Алеша Попович. Полюбилась ему пуще жизни молодая княгиня, имени не припомню. Только была она, княгиня, замужем за старым Тугарином Змиевичем, и как ни бился Алеша Попович, всё только отказы от нее получал. „Не люблю-де тебя, добрый молодец; люблю одного мужа мово, милого, старого Змиевича“. – „Добро, – сказал Алеша, – полюбишь же ты и меня, белая лебедушка!“ Взял двенадцать слуг своих добрыих, вломился в терем Змиевича и увез его молоду жену. „Исполать тебе, добрый молодец, – сказала жена, – что умел меня любить, умел и мечом добыть; и за то я тебя люблю пуще жиз-ни, пуще свету, пуще старого поганого мужа мово Змиевича!“
– А что, Афоня, – прибавил царь, пристально смотря на Вяземского, – как покажется тебе сказка слепого Фильки?
Жадно слушал Вяземский слова Ивана Васильевича. Запали они в душу его, словно искры в снопы овинные, загорелась страсть в груди его, запылали очи пожаром.
– Афанасий, – продолжал царь, – я этими днями еду молиться в Суздаль, а ты ступай на Москву к боярину Дружине Морозову, спроси его о здоровье, скажи, что я-де прислал тебя снять с него мою опалу… Да возьми, – прибавил он значительно, – возьми с собой, для почету, поболе опричников!
Серебряный видел с своего места, как Вяземский изменился в лице и как дикая радость мелькнула на чертах его, но не слыхал он, о чем шла речь между князем и Иваном Васильевичем.
Кабы догадался Никита Романович, чему радуется Вяземский, забыл бы он близость государеву, сорвал бы со стены саблю острую и рассек бы Вяземскому буйную голову. Погубил бы Никита Романович и свою головушку, но спасли его на этот раз гусли звонкие, колокола дворцовые и говор опричников, не узнал он, чему радуется Вяземский.
Наконец Иоанн встал. Все царедворцы зашумели, как пчелы, потревоженные в улье. Кто только мог, поднялся на ноги, и все поочередно стали подходить к царю, получать от него сушеные сливы, которыми он наделял братию из собственных рук.
В это время сквозь толпу пробрался опричник, не бывший в числе пировавших, и стал шептать что-то на ухо Малюте Скуратову. Малюта вспыхнул, и ярость изобразилась на лице его. Она не скрылась от зоркого глаза царя. Иоанн потребовал объяснения.
– Государь! – вскричал Малюта, – дело неслыханное! Измена, бунт на твою царскую милость!
При слове «измена» царь побледнел и глаза его засверкали.
– Государь, – продолжал Малюта, – намедни послал я круг Москвы объезд, для того, государь, так ли московские люди соблюдают твой царский указ? Как вдруг неведомый боярин с холопями напал на объезжих людей. Многих убили до смерти, и больно изувечили моего стремянного. Он сам здесь, стоит за дверьми, жестоко избитый! Прикажешь призвать?
Иоанн окинул взором опричников и на всех лицах прочел гнев и негодованье. Тогда черты его приняли выражение какого-то странного удовольствия, и он сказал спокойным голосом:
– Позвать!
Вскоре расступилась толпа, и в палату вошел Матвей Хомяк с повязанною головой.
Не смыл Хомяк крови с лица, замарал ею нарочно и повязку и одежду: пусть-де увидит царь, как избили слугу его!
Подойдя к Иоанну, он упал ниц и ожидал на коленях позволения говорить.
Все любопытно смотрели на Хомяка. Царь первый прервал молчание.
– На кого ты просишь, – спросил он, – как было дело? Рассказывай по ряду!
– На кого прошу, и сам не ведаю, надежа православный царь! Не сказал он мне, собака, своего роду-племени! А бью челом твоей царской милости, в бою моем и в увечье, что бил меня своим великим огурством незнаемый человек!
Общее внимание удвоилось. Все притаили дыхание. Хомяк продолжал:
– Приехали мы, государь, объездом в деревню Медведевку, как вдруг они, окаянные, откуда ни возьмись, напустились на нас напуском, грянули как снег на голову, перекололи, перерубили человек с десятеро, достальных перевязали; а боярин-то их, разбойник, хотел было нас всех перевешать, а двух станичников, что мы было объездом захватили, велел свободить и пустить на волю!
Замолчал Хомяк и поправил на голове своей кровавую повязку. Недоверчивый ропот пробежал между опричниками. Рассказ казался невероятным. Царь усомнился.
– Полно, правду ли ты говоришь, детинушка, – сказал он, пронзая Хомяка насквозь орлиным оком, – не закачено ль у тебя в голове? Не у браги ль ты добыл увечья?
– Готов на своей правде крест целовать, государь; кладу голову порукой в речах моих!
– А скажи, зачем не повесил тебя неведомый боярин?
– Должно быть, раздумал; никого не повесил; велел лишь всех нас плетьми избить!
Ропот опять пробежал по собранию.
– А много ль вас было в объезде?
– Пятьдесят человек, я пятьдесят первый!
– А много ль ихних было?
– Нечего греха таить, ихних было помене, примерно человек двадцать или тридцать.
– И вы дали себя перевязать и пересечь, как бабы! Что за оторопь на вас напала? Руки у вас отсохли аль душа ушла в пяты? Право, смеху достойно! И что это за боярин средь бело дня напал на опричников? Быть того не может. Пожалуй, и хотели б они извести опричнину, да жжется! И меня, пожалуй, съели б, да зуб неймет! Слушай, коли хочешь, чтоб я взял тебе веру, назови того боярина, не то повинися во лжи своей. А не назовешь и не повинишься, несдобровать тебе, детинушка!