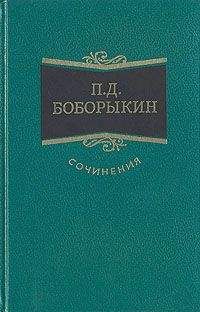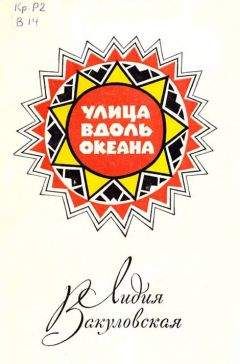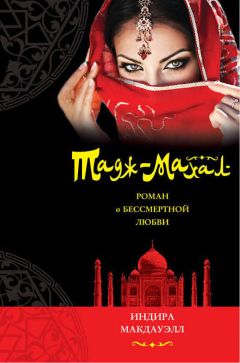— Посмотрите, какие милые лица, — указал ей Палтусов на двух девушек, остановившихся у одного из подзеркальников.
Они были, наверно, сестры. Одна высокая, с длинной талией, в черной бархатной кофточке и в кружевной фрезе. Другая пониже, в малиновом платье с светлыми пуговицами. Обе брюнетки. У высокой щеки и уши горели. Из-под густых бровей глаза так и сыпали искры. На лбу курчавились волосы, спускающиеся почти до бровей. Девушка пониже ростом носила короткие локоны вместо шиньона. Нос шел ломаной игривой линией. Маленькие глазки искрились. Талия перехвачена была кушаком.
— Кто это? — спросила Анна Серафимовна.
— Не знаю их фамилий, но вижу всегда в концертах и в Большом театре, — выговорил Палтусов.
К брюнеткам подошли трое мужчин: толстенький офицер с красным воротником, нервный блондин с подстриженной бородой, в длинном сюртуке и, по московской моде, в белом галстуке, и черноватый франт во фраке и лайковых башмаках — с виду иностранец.
Девушка повыше заговорила с военным. Глаза ее еще больше заиграли. Другая улыбалась блондину.
— Вот толкуют — невест нет, — пошутила Анна Серафимовна, — а куда ни взглянешь — все хорошенькие девушки.
— Милые! — выговорил Палтусов.
— Что не женитесь?
— Время не пришло.
— Я не сваха, никого сватать не буду, — прибавила она серьезно. — Да и вы, Андрей Дмитрич, не женитесь. На это надо талан иметь.
Она сказала «талан», а не «талант» — по-московски. Это ему понравилось.
— Батюшки, — прошептала вдруг она, — не уйдешь от старика!
Ее заметил тот лысый господин, которого она уже видала, когда приехала. По дороге он подошел к брюнеткам, пожал им руки продолжительно, с наклонением всего корпуса, щуря свои мышиные глазки.
Он подошел и к Анне Серафимовне и сделал жест, точно хотел приложиться к руке.
— Анна Серафимовна, — сладко проговорил он, и глазки его совсем закрылись. — Как ваше здоровье? Виктор Мироныч как поживает?
Каждый раз он спрашивает ее одно и то же: о здоровье и о Викторе Мироныче.
— Благодарю вас, — сухо ответила она и рукой немного надавила на руку Палтусова, давая ему чувствовать, чтобы он повел ее дальше.
Они перешли в последнюю залу, перед площадкой. Здесь по стульям сидели группы дам, простывали от жары хор и большой залы. Разъезд шел туго. Только половина публики отплыла книзу, другая половина ждала или "делала салон". Всем хотелось говорить. Мужчины перебегали от одной группы к другой.
— Хотите присесть? — спросил Палтусов.
— Нет, здесь на виду очень.
— Все боитесь?
— Ах, Андрей Дмитрич, — выговорила она полушепотом, — вы во мне еще долго не выкурите… купчихи.
— Да и не нужно.
— Ой ли? — вырвалось у нее.
И она довольно громко засмеялась. Они вышли уже на площадку. Палтусов отвел ее в сторону, направо.
— Надо подождать немного, — сказал он, указывая на толпу.
— Аннушка, здравствуй! — поздоровалась с Анной Серафимовной Рогожина и стала перед ними.
Муж накинул ей на плечи голубую мантилью, после чего подбежал к Станицыной и низко с ней раскланялся.
Палтусову Рогожина подмигнула. Этот взгляд, говоривший: "Вот ты куда подбираешься!", схватила Анна Серафимовна и внутренне съежилась. Она отдернула наполовину руку, которую держал Палтусов.
— Здравствуй, — выговорила она степенным тоном.
— Искала тебя по всей зале… Ты что же это на твоем месте не сидишь, а?
— Не люблю… Очень жарко и к музыке близко.
— Ну, вот что, голубчик… У меня пляс в среду на масленице… Тебя бы и звать не следовало… Глаз не кажешь. Вот и этот молодчик тоже. Скрывается где-то. — Рогожина во второй раз подмигнула. — Пожалуйста, милая. Вся губерния пойдет писать. Маменек не будет… Только одни хорошенькие… А у кого это место не ладно, — она обвела лицо, — те высокого полета!..
— Вот как, — кончиком губ выговорила Анна Серафимовна. Тон Рогожиной ее коробил.
— Будешь?
— Плохая я танцорка… — начала было Анна Серафимовна.
— Нет-с, нет-с, — вмешался муж Рогожиной, — это никак невозможно. Людмилочка говорит истинную правду: одни только хорошенькие будут. Вам никак нельзя отказаться.
— Не мешайся! — крикнула Рогожина. Станицына покраснела.
К ним подошел приезжий генерал, совсем белый, с золотыми аксельбантами. Он весь вечер любезничал с Рогожиной.
— А! — заговорил он, обращаясь к Рогожиной, — здесь салон… Esprit d'escalier…[158]
— Так будете, князь? — Рогожина повернулась к нему и взяла его за обшлаг рукава.
— Непременно…
— Прощай! — сказала Рогожина Анне Серафимовне. — Пойдемте, князь.
Она увела старичка.
— Бой-баба стала моя Людмила Петровна! — заметил Палтусов.
— Ваша? — переспросила Станицына.
— Я ведь ее еще девушкой знал… Мы с ней даже на «ты» были одно время.
— У ней это скоро… А как вы скажете, Андрей Дмитрич… Хорошо ли такой быть, как она?
— В каком смысле?
— Так со всеми обходиться?
— Видите, хорошо… Все к ней ездят… Вся Москва будет… Вот увидите… Только вы-то будьте…
— Буду, — тихо и полузакрыв глаза выговорила она.
Палтусов проводил ее вниз, отыскал ее человека и сам надел на нее шубу. В пуховом белом платке Анна Серафимовна была еще красивее.
Он на нее засмотрелся.
— А ваша Тася! — сказала она ему у дверей вторых сеней. — Когда же ко мне?
— Послезавтра.
— Жду.
Еще раз кивнула она ему головой и пошла, кутаясь в песцовую шубу.
У прилавков, где выдавали платье, давка еще не прекратилась. Из дверей врывался холодный воздух. Палтусов рассудил подняться опять наверх.
С площадки, где зеркало, он увидал наверху, у перил, Нетова. Евлампий Григорьевич стоял, нагнувшись над перилами, и смотрел вниз. Его лицо поразило Палтусова. Он не видал его больше недели. Нетов в последний раз, как они виделись, был возбужден, говорил все о каких-то «предателях», просил прослушать статью, составленную им для напечатания отдельной брошюрой, где он высказывает свои «правила». К этому человеку он чувствует жалость. Прибрать его к рукам очень легко, но как-то совестно. Упускать из рук тоже не следовало.
Нетов спустился на площадку. Он шел, глядя разбегающимися глазами. Шляпа сидела на затылке. Фигура была глупая.
— Евлампий Григорьевич! — окликнул его Палтусов.
— А-а!.. Это вы!
Он точно с трудом узнал Палтусова, но сейчас же подошел, взял за руку и отвел в угол.
— Когда ко мне? — шепнул он таинственно.
— Когда прикажете, — ответил Палтусов, поглядывая на него вопросительно.
— Жду!.. Пообедать! Навестите меня одинокого! И, не прощаясь, он сбежал по ступенькам. "Свихнется", — подумал Палтусов и не пошел за ним. Минуты три он стоял, облокотясь о пьедестал льва. Мимо него прошли сестры-брюнетки и за ними их кавалеры. Тут двинулся и он.
— Андрей Дмитрич! Monsieur Палтусов! — крикнул кто-то сзади, с площадки.
Его догонял маклер-немчик, к которому он обращался когда-то в "Славянском базаре" от имени Калакуцкого.
Карлуша был в полной бальной форме. Из концерта он ехал на Маросейку, на празднование серебряной свадьбы к немецким коммерсантам-миллионщикам.
— Маленечко подождите!
Он сбежал к Палтусову и шепнул ему на ухо:
— Сергей-то Степанович — в трубу!
— Что вы говорите? — откинулся назад Палтусов. Но он тотчас же подумал: "И следовало ожидать".
— Скажите, что же? — заговорил он, беря маклера под локоть.
Они поднялись прямо на площадку.
— Да что — векселя пошли в протест. Платежей нет. Дома на волоске.
— И дома?
— Беспременно! Мне Леонтий Трофимыч говорил, потому товарищество — тоже кувырком!.. И я не рад, что тогда обращался… Ну, да мое дело сторона. Вы нешто ничего не слыхали?
— Слышал кое-что… Я ведь больше не занимаюсь его делами.
— То-то! И разлюбезное дело… Прощайте. Мне еще к Теодору заехать… растрепались все волосы от жары. Да-с, профарфорился герр Калакуцкий.
— Как вы говорите?
— Профарфорился!.. Так Алексей Иваныч все изволят выражаться… Наше вам — с огурцом пятнадцать.
Он засмеялся, подал руку Палтусову и, сбегая с ступенек, заложил свою складную шляпу с синим подбоем под левую мышку. Карлуша ездил в бобровой шапке.
Палтусов остановился. Он решил сейчас же ехать к Калакуцкому.
Его вез извозчик. Своих лошадей он уж начал беречь и не ездил на них по вечерам. До дому Калакуцкого было недалеко, но извозчик тащился трусцой.
Палтусов предчувствовал, что «крах» для его бывшего патрона наступит скоро. Хорошо, что он уже более двух месяцев как простился с ним. Паевое товарищество задумано было, в сущности, на фу-фу… Быть может, к весне, если бы Калакуцкому удалось завербовать двух-трех капитальных "мужиков", — дело и пошло бы. Но он слишком раскинулся. Припомнились Палтусову слова: «хапает», сказанные ему Осетровым. Вот тот так человек!