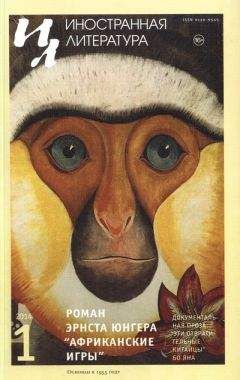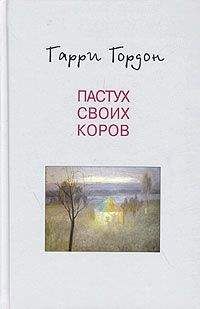крикнул Сяо Пэн, а сам уже понял, что хитрая обезьяна все-таки взяла над ним верх.
Сяо Ши расхохотался, отступил подальше, чтобы не попасть под взрыв его гнева, и встал в защитную стойку.
— А я смотрю, чего это она такая мякенькая? Японский тофу!
— Сволочь!
— Ну и что, что сволочь? Сволочь, а друзей от врагов отличаю, — отступив еще на три шага назад, Сяо Ши демонстрировал приемы из стиля обезьяны [90]. — Я японского тофу не пробовал, так что я сволочь с национальным сознанием!
— Черта лысого у тебя сознание!
— А у тебя и того нет!
Зная, что чем дольше Сяо Ши веселится, тем больше входит в раж, Сяо Пэн накинул на голову полотенце и решительно зашагал к общежитию. Когда открывал дверь в свою комнату, с темного лестничного пролета послышался свист. Сегодня Сяо Ши не даст ему покоя, пока не выведает историю Дохэ от начала до конца.
Кончилось тем, что они вдвоем и съели посиневшее мясо. Одолжили у соседей керосинку, сполоснули тазик для умывания и сварили в нем мясной суп. Под кошмарную историю Дохэ ушло шесть лянов вина. Так они пили да ели, пока Сяо Ши не вырвало Сяо Пэну на кровать. Хозяин только успел убрать, а Сяо Ши уже залез на кровать соседа из Сычуани и там тоже все испачкал своей блевотиной. Сяо Пэн отхаживал друга, ругая его сволочью и черепашьим отродьем, а про себя думал, что даже этого ублюдка история Дохэ вон как проняла: всего наизнанку вывернуло.
Снег в этих краях выпадал раз в сто лет, а то и реже. Сяохуань улеглась грудью на балконные перила и завороженно глядела на улицу. Сосны на горе стояли белые, и издалека казалось, что это тот самый косогор в деревеньке Чжуцзятунь. Едва научившись ходить, Сяохуань что ни день взбиралась на гору за шишками, боярышником и диким виноградом; там они с отцом ложились в снег и поджидали, когда лиса выскочит из норы. В Дунбэе-то снег хороший, теплый, отец выроет Сяохуань ямку — в ней не замерзнешь. После Земельной реформы, когда семью Чжу причислили к зажиточным крестьянам, Сяохуань всего дважды наведалась в родной дом: первый раз, когда хоронили отца, второй — когда умерла мать. В последние дни мать сетовала, что горше всего болит ее сердце за младшую дочь, Сяохуань: избаловали ее хуже некуда, сначала в родном доме, потом у мужа, а как в старости будет жить? Дети-то не родные кровинки, не из ее утробы, а ну как узнают правду, что за старость ждет тогда Сяохуань? Мать уходила из жизни с неспокойной душой.
Снег падал весело, бойко, пряча под собой грязный мусор на улицах, с утра до ночи не смолкавшую ругань и шум радио. Дети пока не знают, что дом их укрыт снегом, что за ночь они перенеслись в родной Дунбэй. Редко бывало у Сяохуань так тоскливо, солоно на сердце. Перед смертью мать спросила: «Дети тебя любят? Верят, что ты им родная? Может, японская бабенка их подначивает втихомолку, ссорит с тобой?» Сяохуань велела матери уходить с миром: дома ее слово — закон и для детей, и для взрослых. Мать знала, что младшая дочь ни за что не признает себя побежденной, раньше показная сила Сяохуань ее только тревожила, зато на смертном одре подарила покой.
По правде, разговаривая с матерью в последний раз, Сяохуань чувствовала, что кривит душой. Дети подрастали и за все время ни секунды не сомневались, что Сяохуань им родная мать. Бегут из школы, еще домой не зашли, уже орут: «Мама, мама!» «Мам, умираю от голода!», «Мам, в туалет хочу, сил нет!», «Мам, Эрхай опять подрался!», «Мам, что расскажу, обхохочешься…»
И Сяохуань едва успевала отвечать: «От голода умираешь? Так мы умирающих не кормим, все равно скоро помрешь!», «Сил нет терпеть, а в школе не мог сходить? Домой свои удобрения притащил…»
С детства у Сяохуань накопилась уйма побасенок о духах и бесах, субботними вечерами, когда Чжан Цзянь уходил в ночную смену, дети собирались вокруг нее тесным кружком и слушали истории, каждый раз новые. Дети не просто любили Сяохуань, они ее боготворили, благодаря Сяохуань никто не смел их и пальцем тронуть: Сяохуань если начнет ругаться, то обидчик от ее ругани сначала в доме запрется, а там и через заднее окошко сбежит. У Сяохуань повсюду были свои люди: в каждом доме жилого квартала у нее находились подруги и приятели, и потому она выходила победительницей из любого спора. Дети гордились Сяохуань: на родительские собрания она облачалась в свой единственный дамский костюм, завитые волосы укладывала волнами, а на руку надевала часики из лавки старьевщика. Одноклассники вздыхали: «Ваша мама как актриса из хуанмэйской оперы! [91] — Для детей это был образец красоты. — Сколько стоят ее золотые часики?» И близнецы, и Ятоу раздувались от гордости и никогда не признавались, что мамины часики не ходят.
Больше всех детей Сяохуань любила Ятоу. Девочка без слов понимала, какое у мамы настроение — если Сяохуань хоть немного не в духе, всегда подойдет, тихонько спросит: «Мам, на кого сердишься?», «Мам, опять желудок разболелся?» Ятоу исполнилось уже пятнадцать, а новой одежды у нее за всю жизнь было раз-два и обчелся — пара белых рубашек для выступлений на школьных концертах, а все остальное или перешито из одежды Сяохуань и Дохэ, или связано из перчаток. Форменные ботинки Чжан Цзяня из вывернутой кожи можно было обменять на пару десятков рабочих перчаток, а из них одежды выходило порядочно.
В комнате заработало радио. С утра муж первым делом включал приемник. Эта новая привычка пришла на смену старой: раньше Чжан Цзянь, проснувшись, всегда курил. Три голодных года избавили мужа от дурных привычек: и курить бросил, и пить. В прошлом году на заводе прибавили зарплату, он тогда сразу купил домой приемник.
Вернувшись с отцовских похорон, Сяохуань стала присматриваться к Чжан Цзяню и Дохэ: а ну как снова взялись за старое? Будто бы между делом спрашивала у детей: «А тетя все время с вами спала?» Кончилось тем, что Чжан Цзяню осточертели ее косые взгляды: я одного хочу, чтоб семья жила тихо и мирно, а больше мне ничего не надо. Довольна? Успокоилась? В другой раз в деревню поедешь, не станешь детей в шпионы вербовать? Чжан Цзянь накликал беду: спустя два месяца после похорон отца слегла и мать, и Сяохуань снова поехала