И еще томило то, что Черноклеин насказал ему о возможности оспаривать это завещание. Нотариус говорил:
— Все фабриканты всполошатся, правительство обеспокоится, на суд будет оказано большое давление.
Итак, значит, все впереди неопределенно и зыбко. И при этом — пять долгих дней ожидания.
Неровная, тяжелая работа сердца, быстрый бег коляски, настойчиво бьющийся в лицо теплый, тревожный ветер, мелькающие мимо поля и рощи, холмы, извивы Волги, пешеходы и проезжие, неприятная пыль из-под колес встречников, вскрики и всмехи ребятишек в перелесках, сухой шорох колосьев, внезапное карканье ворон и резкий клекот ястреба над двором попутной усадьбы, и бабий испуганный злой крик, все привычное и все странно-новое, волновало и томило. И жутко замерло сердце, когда коляска понеслась, ускоряя ход, по широкой березовой аллее к сложенным из тяжелых серых глыб воротам его владения.
Звуки рояля сквозь раскрытые окна дома внятно рассказали ему в нескольких тактах всю историю его жизни и втеснили в свое зыбкое течение все, чем отравлена душа, скука надоедливых повторений, суета и маета тщетных забот и трудов, сожаление о ряде совершенных ошибок, печаль о невозможном счастии, которого все еще жаждет страстное сердце, скорбь о невозвратно утраченном, горе отца, пустынное неверие и обманутая вера, робкая боязнь стерегущих бед, суетный страх мирских осуждений, лукавый стыд перед всякою тупоглазою ухмылкою, тоска гнетущих предчувствий, непобедимый ужас, неожиданно воздвигающий сонмы грозящих призраков, отчаяние души, вдруг ставшей на краю невозможной бездны, томительное бессилие, гнетущее безволие, — все переливалось в нем, и он казался себе растворенным в этой прозрачной, звучащей стихии.
Она владела им, как страсть, она переплавила пламенно всю сумятицу противоречивых чувств, из всех угнетенностей и слабостей извлекла сладчайший и крепчайший яд, все муки душевные сплела в один узел, зажгла одним костром, пылающим выше небес, и жажда обладания победно всплыла над морем этих пленительных звуков, над бушеванием печалей и страстей. Настойчивый и волевой характер стремительных звуков все ярче и сильнее действовал на Горелова, как заклинание ночной волшебницы, из мрака и бури творящей пламенные лики. И в душе старого человека желаемое властно требовало осуществления.
Намеренно замедляя шаги на лестнице и ни с кем не говоря, он прошел прямо к себе с таким чувством, как будто нес глубокую и полную чашу напитка, который нельзя разлить. У себя в кабинете он сел в покойное кресло у телефона, соединился с Черноклеиным и потребовал, чтобы документ был во что бы то ни стало изготовлен к завтрашнему утру.
— В десять часов я за ним приеду.
Черноклеин пытался поспорить. Но голос Горелова звучал так страстно и настойчиво, что Черноклеин вдруг понял неодолимость этой поздней страсти, заразился этим пряным ядом непреклонного желания и дрогнувшим голосом сказал:
— Ну хорошо, Иван Андреевич, сделаю.
А сам принялся за дело, и под его седыми стриженными жестко усами дрожала жалостливая улыбка.
98
Прямо с парохода Шубников отправился в фабричную контору. Управляющий, Василий Ермилович, уже ушел, и два-три оставшихся конторщика любезничали с вертлявою кассиршею потребительной лавки и смешили ее до упаду незатейливыми выдумками. Когда Шубников вошел, они притворились, будто перестали любезничать только потому, что подходит время уходить. Кассирша выпорхнула, как ласточка, весьма тяжеловесная, но все же быстрокрылая. Конторщики, тихонько переговариваясь, убирали свои бумаги.
Шубников отозвал к сторонке Пучкова. Спросил его тихо:
— Вы сегодня к Людмиле Ивановне не думаете зайти?
Пучков медлил ответить. Шубников сказал:
— Дело, видите ли, вот в чем: мне надобно с вами переговорить об одном очень важном и щекотливом деле. Здесь и в слободке неудобно. Вопрос, видите ли, довольно личного, интимного, так сказать, характера.
— Что-нибудь относящееся к Людмиле Ивановне? — с беспокойством спросил Пучков.
Нежное лицо его слегка покраснело, и мечтательные глаза на минуту стали острыми: ему было досадно с Шубниковым говорить о Милочке. Шубников с трудом подавил мефистофельскую усмешку, думая о том, что Пучков этим вопросом выдал свою смешную влюбленность. Он говорил:
— Нет, это касается Людмилы Ивановны только косвенно. Я хотел просить вас зайти ко мне. А впрочем…
Он огляделся, — из конторы уже все ушли.
— Пожалуй, можно и здесь, — продолжал он. — Дело, видите ли, вот в чем…
И он принялся полушепотом, многословно и запутанно, подводить Пучкова к опасной теме. Говорил, что ему, по его положению на фабрике и в доме, становится иногда случайно известным многое такое, чего он не хотел бы и знать: бывает иногда ужасно неприятно входить в чужие дела, но все же долг порядочного человека заставляет в случае необходимости не оставаться безучастным к тому, что может отразиться тяжело на чьей-нибудь судьбе. Говорил, что он всегда был другом рабочих, что он — социал-демократ по убеждениям, но что некоторые из рабочих относятся к нему недоверчиво. Он не винит в этом рабочих, — им, конечно, иногда трудно разобраться в том, кто им друг и кто им враг, но ему все-таки это очень горько, и он этого не заслуживает. Ему очень печально, что такой, например, сознательный рабочий и симпатичный во всех отношениях человек, как Соснягин, смотрит на него подозрительно и неприязненно. Потому он, Шубников, не может поговорить с Соснягиным откровенно о таких деликатных обстоятельствах, где все его симпатии на стороне рабочего против хозяина, так как Соснягин мог бы заподозрить искренность и правдивость его слов. Потому-то Шубникову и приходится обращаться к посредничеству Пучкова. Затем последовал целый поток комплиментов Пучкову, его интеллигентности, деликатности, тактичности, понятливости, уменью говорить с разными людьми и прочим его прекрасным душевным свойствам. Дальше — смутный, сбивчивый рассказ о любовных увлечениях Горелова, о его новой внезапной страсти к одной из фабричных работниц, — но имени Веры не было произнесено ни разу. Потом Шубников сделал предположение, что Горелов в одну из ближайших ночей, может быть, даже нынче, будет ждать нежного свидания в своем саду, в той его части, которая выходит в сторону к фабричной слободке; это Шубников заключил будто бы из того, что хозяин осведомлялся о какой-то калитке в том месте и ключ потребовал себе, а также из того, что Горелов сегодня с утра очень взволнован, делами не интересуется и поехал в город, надо полагать, с целью купить подарок своей новой возлюбленной.
Ошеломленный этим потоком неожиданных излияний, Пучков слушал молча. Как в тумане, дал он Шубникову честное слово хранить все это в тайне и только одному Соснягину, и то под большим секретом, сказать о калитке и о хозяйских вожделениях, отнюдь не говоря при этом, что получил эти сведения от Шубникова. Соснягин же поймет, что Пучков, часто бывая в доме Гореловых, мало ли от кого мог узнать это, но не может выдавать сообщившего, чтобы не подвести его под неприятность.
Получивши от Пучкова это обещание, скрепленное неоднократно честным словом и крепким рукопожатием, Шубников быстро ушел. Пучков надел соломенную шляпу, взял свою тросточку и отправился домой. По дороге он думал, что речь идет о Вере, и пенял на себя, что взялся за такое щекотливое и неприятное дело. В глазах его было мечтательное более обычного выражение, тросточка особенно нервически и тонко посвистывала, описывая быстрые круги в воздухе, а иногда вырывалась из рук. Пучков не без робости соображал, как же это он станет говорить с таким резким, суровым и гордым человеком, как Соснягин, о таком деле. Думал, не лучше ли сказать это сначала Вериной матери. Хотел было отложить до завтра, потому что утро вечера мудренее, но тотчас же ему пришла в голову мысль, что непоправимое событие может совершиться в любую ночь, даже и в эту. При этой мысли у него от страха похолодели ноги, тросточка вырвалась из рук и угодила прямо в спину высокому и тонкому человеку в блузе, засыпанной фарфорового пылью. Тот обернулся, — Пучков узнал Соснягина.
«Поразительное совпадение!» — думал Пучков, холодея.
99
После обеда Шубников, многозначительно подмигнувши Николаю, пошел к нему. Там, с обычными гримасами и ужимками, он рассказал Николаю, будто бы от одного знакомого человека, который служит у нотариуса, узнал о завещании Горелова в пользу рабочих. Не сказал, что в пользу Веры, потому что это могло бы смягчить злость Николая: пожалуй, решил бы, что если Вера и отвергает его свободную любовь, то согласится выйти за него замуж, да еще будет рада такой чести.
Николай осатанел от злости. Вопил, неистово мечась по комнате и бешено топая ногами при каждом сильном слове:
— Да он с ума сошел, старый черт! Да это грабеж на большой дороге! Да на него надобно опеку наложить!
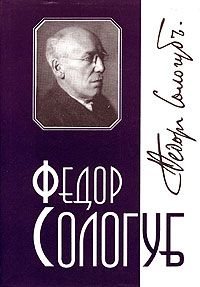
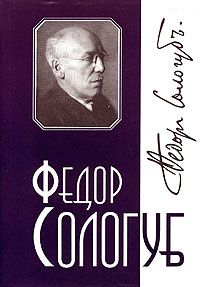
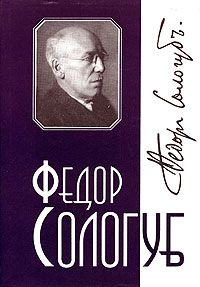

![Картер Браун - Том 13. Пуля дум-дум [Тело. Жертва. Пуля дум-дум. Бархатная лисица]](https://cdn.my-library.info/books/142921/142921.jpg)
