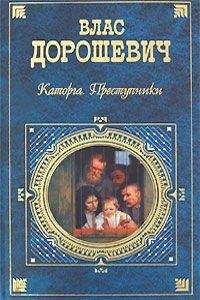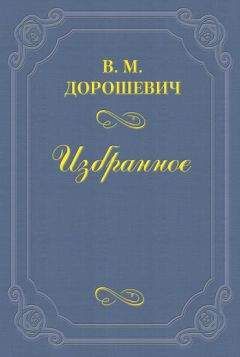– С бегу стреляли-то? – интересуется молодой паренек, из дисциплинарных.
– С бегу.
– Если бы приостановился кто. Стрелять способнее.
– Тебя, дурака, не спросили, жалко! Фельдфебель! – обрывает его кто-то из слушателей, – валяй дальше!
– Стал я, братцы мои, приставать. Вижу, сил моих нет. Вот-вот, думаю, с ног свалюсь, возьмут. Да не такой человек Ефим Трофимов, чтобы живым в руки даться! Слышу, настигают… Все ближе топот. Оглянулся – глядеть страшно. Штыки сверкают. Сила! А по дороге-то, впереди так, – дерево… Высоченное дерево, сажен двадцать… Собрал я силенки – да к нему. Раз, раз – да и взобрался… Вскарабкался на сук да и сижу. Подбегают, запыхались, так с них и льет, еле дышат. Замучил я их, замытарил. «Слезай, – кричат, – чертов сын, честью!» – «Вот, – говорю, – ладно, беспременно слезу, когда рак свистнет. Подождите маленько!..» Им бы пулей меня достать – на что легче, да пули-то все пристреляли. А лезть-то боятся, потому топор при мне, – мне сверху-то по башке способно. Слышу, говор идет меж их: «Полезай ты сперва!» – «Нет, ты!» – «Нет, ты…» А я себе сижу, ни гу-гу, отдыхиваюсь. Только, братцы, постояли они так-то, решили дерево свалить, чтобы меня достать. Зачали дерево под корень штыками. Дрожит все дерево, трясется. Они копают, а я все выше взбираюсь. Они копают, а я выше. Взобрался на самую маковку, жду. Начало дерево подаваться… «Ну, еще! Наддай!» – орут, дерево валят. А по голосам слыхать, что еле дух переводят, пристали. «Еще наддай…» Ходуном подо мной дерево ходит, а я все на маковке сижу, держусь… Да как ухнет дерево-то, только стон пошел от ветвей, хруск… Как маковка-то об землю треснулась – я наземь да в бег. Они-то у корня стояли, а я на маковке, – у меня двадцать сажен, мазы[50]… Они-то, дерево копавши, вконец перемучились, а я-то отдохнул, сидючи!
– Здорово! – одобрили арестанты.
– Ведь вот говорят: «Семь верст до небес, и все лесом!»[51] – не вытерпел задетый давеча за живое паренек.
– А тебе что? – накинулась на него каторга, – ты чего лезешь, волынку затираешь? Не любо, не слушай! А лезть нечего. Чувырло братское.
Каторга негодовала на то, что прервали «занятный рассказ».
Много таких рассказчиков в каждой тюрьме. И что это за рассказы! Что за дикие, за фантастические, нелепые рассказы о небывалых преступлениях! Слушаешь другого да диву даешься.
Его действительных-то приключений тома бы на три хватило. Да на каких тома! А он, Бог его знает, какую чушь выдумывает!
Это Понсон дю Терайли, Ксавье де Монтепены каторги.
Им не верят, да их не для того и слушают.
Каторга относится к ним, как мы – к нашим бульварным романистам.
Не требует от них правды, довольствуется интересной выдумкой.
Она смотрит на них как на хороших сказочников.
Это вряд ли можно назвать бахвальством преступлением.
Да я и не думаю, чтобы бахвальство могло произвести на каторгу особое впечатление.
Сидя с человеком 24 часа в сутки, поневоле изучишь его, будешь знать, на что он способен, на что нет, – сразу отличишь, что в его рассказах правда, что – хвастливая ложь.
Да каторга и не придает особенной цены преступлениям, совершенным «в Рассее».
– Там-то мы все храбры были!
Она относится еще с некоторым уважением к преступникам, взявшим, благодаря преступлению, крупную сумму, – и глубоко презирает тех, кто совершил преступление из-за грошей.
Самим же преступлением каторги не увидишь. Тут, так сказать, приходится «играть среди виртуозов».
Герои каторги – рецидивисты.
Она ценит только преступления и проступки, совершенные здесь, на Сахалине.
И какой-нибудь смелый беглец или человек, наговоривший дерзостей смотрителю, в ее глазах гораздо более «герой», чем человек, зарезавший целую семью в России.
Полуляхова каторга стала уважать с тех пор, как он бежал, дерзко, на виду у всех, – вырвав ружье у часового.
Есть только одно преступление, которое покрывает совершившего его немеркнущей славой. Это убийство кого-нибудь из тюремной администрации.
К такому каторга относится всегда с почтением.
Человек шел «на веревку».
Человек не боится ничего, – значит, надо бояться его.
И к такому человеку относятся с боязливым почтением.
Остальное все не производит никакого впечатления:
– Это все, что было, то прошло! Ты нам теперь себя выкажи!
Прошлое умерло. Каторгу интересует только, что в человеке «осталось».
До сих пор мы говорили об отношении только к самому факту преступленья.
– Ну, а их отношения к жертве?
Что они чувствуют по отношению к ней?
Редко – злобу, часто – презрение, обыкновенно – полное равнодушие.
– Как же! Жалко! – отвечает вам обыкновенно преступник на вопрос, неужели ему не жаль своей жертвы?
Но лучше бы он не говорил этого!
Он произносит это «жалко», как будто речь идет не о жизни, а о каком-то пустяке, отнятом у несчастного!
В этом тоне звучит такое равнодушие – равнодушие ко всему на свете, кроме его собственной персоны.
Вы чувствуете, что он говорит «жалко» просто «из приличия»: «так уж полагается по-ихнему, чтоб жалеть».
Что этим он делает уступку вам!
Убийцы-грабители вспоминают о своей жертве с презрением, если несчастный не хотел сразу отдавать деньги, если он боролся.
Им кажется это достойным презрения: человек ставил деньги выше жизни!
Один из преступников не мог без улыбки вспомнить, как его несчастная жертва, когда он вошел к ней с топором, закричала:
– Как ты смеешь? Да ты знаешь ли, на чей дом нападаешь!
– Сударыня, – отвечал он ей с улыбкой, – для нас все равны.
Злобу к своим жертвам, злобу непримиримую, которая не угасает никогда, чувствуют только те из преступников, кому пришлось много перетерпеть, прежде чем они решились на преступление.
С такой злобой отзывался мне о своей жертве один из каторжных, бывший денщик-кучер в Корсаковском округе, убивший своего «барина» за то, что тот жестоко с ним обращался.
– Опять бы из гроба встал – опять бы задушил!
И выражал сожаление, что не удалось «помучить его перед смертью».
Помню, один убийца жены – он отрубил ей голову – на мой вопрос:
– Неужели же тебе не бывает жаль ее?
Отвечал:
– Опять бы жила – вот хоть сейчас, – опять бы ей башку отрубил, подлой!
И с такой злобой сказал это. А вообще-то это один из добродушнейших людей в каторге.
Добрый, безответный, готовый поделиться последним.
Видно, и насолила же ему покойница!
Вообще эти люди, со злобой относящиеся к своим жертвам, по большей части люди добродушные, мягкие.
Это просто люди с лопнувшим терпением.
Искреннее, действительно глубокое сожаление к своей ни в чем не повинной жертве мне пришлось наблюдать только один раз.
Это несчастный Горшенин, сожалевший об убитом им в припадке раздражения инженере Корше.[52]
Мы дошли до вопроса, который, может быть, интересует вас так же, как он интересовал меня.
До вопроса о галлюцинациях и снах. Об этой «икоте воображения», «отрыжке совести».
Преследуют ли их призраки жертв, как они преследуют шекспировских героев, или сахалинские преступники сделаны из другого теста.
Но ведь и шекспировских героев не всех одинаково преследуют призраки убитых.
Макбет видит наяву тень Банко, в то время, как Ричарда III мучат призраки во время сна, во время тяжкого кошмара. А королю Клавдию ни во сне, ни наяву не является тень убитого им короля и брата.
Я расспрашивал всех тюремных врачей относительно галлюцинаций у каторжников, и изо всех врачей только один доктор Лобас, человек, глубоко знающий каторгу, мог сообщить мне только один случай, когда преступник жаловался на преследования призрака.
Я потом виделся и с преступником.
Это некто Вайнштейн, рецидивист, убивший на Сахалине женщину.
Другие говорят, что он убил ее, не добившись ничего ухаживаниями.
Он уверяет, что убил ее из отвращения:
– Уже немолодая женщина – она изменяла своему мужу. И как изменяла! Мне стало противно, и я убил ее, прямо из какой-то ненависти, из презрения, раздавил как гадину.
Ее окровавленный призрак не давал ему покоя, пока он сидел в одиночном заключении.
Он не спал ночей, потому что она постоянно входила к нему, и на него «летели брызги крови».
Интересный рассказ о галлюцинациях мне пришлось выслушать от одного поселенца, которого я взялся подвезти из поста Дуэ в пост Александровский.
– Зачем пробираешься-то? – спрашиваю дорогой.
– Да к окружному ишол, сожительницу себе просить новую.
– А что же старая-то плоха, что ли?
– Зачем плоха! Хорошая баба была, да померла… Второй месяц как померла. А мне без хозяйки никак невозможно. Хозяйство! Может, дадут какую, хоть завалящую!
Мы проехали с четверть версты молча.
– Да и слава Тебе, Господи, что померла! Прибрал ее Господь! Успокоил, да и меня-то вместе с ней. Мука была мученская.