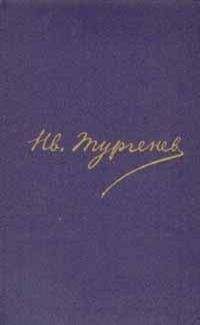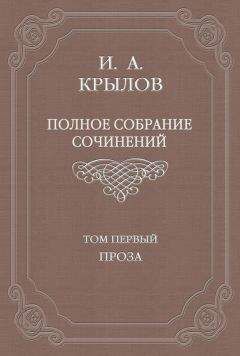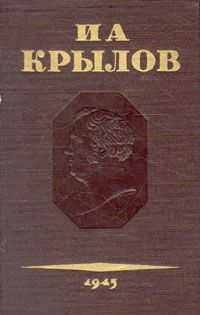В отчизне Данта, древней, знаменитой*,
В тот самый век, когда монах немецкий*
Противу папы смело восставал,
Жил честный гражданин, Филиппо Стродзи.
Он был богат и знатен; торговал
Со всей Европой, заседал в судах
И вел за дело правое войну
С соседями: не раз ему вверяла
Свою судьбу тосканская столица.*
И был он справедлив, и прост, и кроток;
Не соблазнял, но покорял умом
Противников… и зависти враждебной,
Тревожной злобы, низкого коварства
Не ведал прямодушный человек.
В нем древний римлянин воскрес; во всех
Его делах, и в поступи, во взорах,
В обдуманной медлительности речи
Дышало благородное сознанье —
Сознанье государственного мужа.
Не позволял он называть себя
Почетными названьями; льстецам
Он говорил: «Меня зовут Филиппом,
Я сын купца». Любовью беспредельной
Любил он родину, любил свободу,
И, верный строгой мудрости Зенона,*
Ни смерти не боялся, ни безумно
Не радовался жизни, но бесчестно,
Но в рабстве жить не мог и не хотел.
И вот, когда семейство Медичисов,*
Людей честолюбивых, пышных, умных,
Уже давно любимое народом
(Со времени великого Козьмы)*,
Достигло власти наконец; когда
Сам император — Пятый Карл* — родную
Дочь отдал Александру Медичису,
И, сильный силой царственного тестя,
Законы нагло начал попирать
Безумный Александр — восстал Филипп
И с жалобой не дерзкой, но достойной
Свободного народа, к венценосцу
Прибег. Но Карл остался непреклонным —
Цари друг другу все сродни. Тогда
Филиппо Стродзи, видя, что народ
Молчит и терпит, и страшась привычки
Разврата рабства — худшего разврата, —
Рукою Лоренцина погубил*
Надменного владыку. Но минула
Та славная, великая пора,
Когда цвели свободные народы
В Италии, божественной стране,
И не пугались мысли безначалья,
Как дети малолетные… Напрасно
Освободил Филипп родную землю —
Явился новый, грозный притеснитель*,
Другой Козьма. Филипп собрал дружину,
Друзей нашел и преданных и смелых,
Но полководцем не был он искусным…
Надеялся на правоту, на доблесть
И верил обещаньям и словам
Не как ребенок легковерный — нет!
Как человек, быть может, слишком честный…
Его разбили, взяли в плен. Октавий*
Разбил же Брута некогда. Как муху
Паук, медлительно терзал Филиппа
Лукавый победитель. Вот однажды
Сидел несчастный после тяжкой пытки
Перед окном и радовался втайне:
Он выдержал неслыханные муки
И никого не выдал палачам.
Сквозь черную решетку падал ровный
Широкий луч на бледное лицо,
На рубище кровавое, на раны
Страдальца. Слышался вдали беспечный,
Веселый говор праздного народа…
В окошко мухи быстро залетали,
И с вышины томительно далекой
Прозрачной, светлой веяло весной.
С усильем поднял голову Филиппо:
И вспомнил он любимую жену*,
Детей-сироток — собственное детство…
И молодость, и первые желанья,
И первые полезные дела,
И всю простую, праведную жизнь
Свою тогда припомнил он. И вот
Куда попал он наконец! Надеждам
Напрасным он не предавался… Казнь,
Мучительная казнь его ждала… Сомненье
Невыразимо горькое внезапно
Наполнило возвышенную душу
Филиппа; сердце в нем отяжелело,
И выступили слезы на глаза.
Молиться захотел он, возмутилось
В нем чувство справедливости… безмолвно
Израненные, скованные руки
Он поднял, показал их молча небу,
И без негодованья, с бесконечной
Печалью произнес он: где же правда?
И ропотом угрюмым отозвался
Филиппу низкий свод его тюрьмы…
Но долго бы пришлось еще терзаться
Филиппу, если б старый, честный сторож,
Достойный понимать его величье,
Однажды, после выхода судьи,
Не положил бы молча на пороге
Кинжала… Понял сторожа Филипп, —
И так же молча, медленным поклоном
Благодарил заботливого друга.
Но прежде чем себе нанес он рану*
Смертельную, на каменной стене
Кинжалом стих латинской эпопеи
Он начертал: «Когда-нибудь восстанет*
Из праха нашего желанный мститель!»
Последняя, напрасная надежда!
Филиппов сын погиб в земле чужой —*
На службе короля чужого; внук
Филиппа заживо был кинут в море*,
И род его пресекся, Медичисы
Владели долго родиной Филиппа,
Охотно покорялись им потомки
Филипповых сограждан и друзей…
О наша матерь — вечная земля!
Ты поглощаешь так же равнодушно
И пот, и слезы, кровь детей твоих,
Пролитую за праведное дело,
Как утренние капельки росы!
И ты, живой, подвижный, звучный воздух,
Ты так же переносишь равнодушно
Последний вздох, последние молитвы,
Последние предсмертные проклятья,
Как песенку пастушки молодой…
А ты, неблагодарная толпа,
Ты забываешь так же беззаботно
Людей, погибших честно за тебя,
Как позабудут и твои потомки
Твои немые, тяжкие страданья,
Твои нетерпеливые волненья
И все победы громкие твои!
Блажен же тот, кому судьба смеется!
Блажен, кто счастлив, силен и не прав!!!
Дверь отворилась… и вошел Козьма…
Был светлый летний день, когда с охоты знойной
В свой замок, вдоль реки широкой и спокойной,
Графиня ехала. Сверкал зеленый луг
Заманчиво… но ей всё надоело вдруг —
Всё: резкий звук рогов в излучинах долины,
И сокола полет, и цапли жалкий стон,
Стальных бубенчиков нетерпеливый звон,
И лесом вековым покрытые вершины,
И солнца смелый блеск, и шелест ветерка…
Могучий серый конь походкой горделивой
Под нею выступал, подбрасывая гривой,
И умной головой помахивал слегка…
Графиня ехала, не поднимая взора, —
Под золотом парчи не шевельнется шпора,
Скатилась на седло усталая рука.
Читатель! мы теперь в Италии с тобой,
В то время славное, когда владыки Рима*
Готовили венец творцу Ерусалима,
Венец, похищенный завистливой судьбой;
Когда, в виду дворцов высоких и надменных,
В виду озер и рек прозрачно голубых,
Под бесконечный плеск фонтанов отдаленных,
В садах таинственных, и темных, и немых,
Гуляли женщины веселыми роями
И тихо слушали, склонившись головами,
Рассказы о делах и чудесах былых…
Когда замолкли вдруг военные тревоги —
И мира древнего пленительные боги
Являлись радостно на вдохновенный зов
Влюбленных юношей и пламенных певцов.