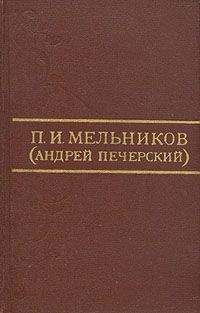— Все, кто тебя ни заверял, — одна плутовская ватага, — сказал, наконец, Колышкин, — все одной шайки. Знаю этих воров — нагляделся на них в Сибири. Ловки добрых людей облапошивать: кого по миру пустят, а кого в поганое свое дело до той меры затянут, что пойдет после в казенных рудниках копать настоящее золото.
— Изловить бы их, — молвил Патап Максимыч.
— Ловить плутов — дело доброе, — заметил Колышкин. — Не одного, чай, облупили, на твоем только кошеле пришлось напороться… Целы теперь не уйдут…
— Не уйдут… Нет, с моей уды карасям не сорваться!.. Шалишь, кума. Не с той ноги плясать пошла, — говорил Патап Максимыч, ходя по комнате и потирая руки. — С меня не разживутся!.. Да нет, ты то посуди, Сергей Андреич, живу я, слава тебе господи, и дела веду не первый год… А они со мной ровно с малым ребенком вздумали шутки шутить!.. Я ж им отшучу!
— А ты, крестный, виду не подай, что разумеешь ихнюю плутню, — сказал Колышкин. — Улещай их да умасливай, а сам мани, как пташку на силок. — Да смотри — ловки ведь мошенники-то, как раз вьюном из рук выскользнут. Вильнет хвостом, поминай как звали.
— Не сорвутся! — молвил Патап Максимыч. — Нет, не сорвутся! А как подумаешь про народ-от!.. — прибавил он, глубоко вздохнув и разваливаясь на диване. — Слабость-то какая по людям пошла!..
— На скорые прибытки стали падки, — ответил Колышкин. — А слышал ты, как ветлужские же плуты Максима Алексеича Зубкова обработали?.. Знаешь Зубкова-то? — Как не знать Максима Алексеича! — ответил Патап Максимыч. — Ума палата…
— Да денежка щербата, — перебил Колышкин. — Мягкую бумажку возлюбил — переводит… И огрели ж его ветлужские мастера — в остроге теперь сидит.
— Полно! Как так? — с удивлением спросил Патап Максимыч.
— Приходит к нему какой-то проходимец из вашего скита — Красноярский никак прозывается?
— Красноярский! — воскликнул Патап Максимыч. — Есть такой… Знаю тот скит… Что ж тако? — спрашивал он с нетерпеньем.
— Приходит к Зубкову из того скита молодой парень, — продолжал Колышкин. — О том, о сем они покалякали, знамо — темные дела разом не делаются. Под конец парень две сереньких Максиму Алексеичу показывает: «Купите, дескать, ваше степенство, дешево уступлю, по пятнадцати целковых казенными». Разгорелись глаза у Максима Алексеича — взял. Сбыл без сумнения. Да только сбыл, парень опять лезет с серенькими, только дешевле двадцати пяти за каждую не берет. Максим Алексеич и эти взял — видит, товар хороший. Да для пущего уверенья понес одну в казначейство… Приняли… Он другую, и ту приняли… Максим Алексеич и остальные понес — все взяли. «Эка работа-то важнецкая, — думает, — да с такой работой можно поскорости миллион зашибить». Сам стал красноярского парня разыскивать, а тот как лист перед травой. «Такие дела, говорит, выпали, что надо беспременно на Низ съехать на долгое время, а у меня, говорит, на двадцать тысяч сереньких водится — не возьмете ли?» Максим Алексеич радехонек, да десять тысяч настоящими взамен и отсчитал… Да на первой же бумажке и попался — все фальшивые… Дело завязалось — обыск… Красноярские денежки сыскались у Зубкова в сундуке, а парня след простыл — ищи его как ветра в поле… И сидит теперь Максим Алексеич в каменных палатах за железными дверями…
— Поди же вот тут! — молвил Патап Максимыч. — Первы-то бумажки парень давал ему настоящие, — продолжал Колышкин, — а как уверился Зубков, он и подсунул ему самодельщины… Вот каковы они, ветлужские-то!.. Патап Максимыч задумался. Как же так? — было у него на уме. — Отец-от Михаил чего смотрит?.. Морочат его, старца божия!.. — Да, избаловался народ, избаловался, — сказал он, покачивая головой. — Слабость да шатость по людям пошла отца обмануть во грех не поставят.
— Навострились, крестный, навострились, — отозвался с усмешкой Колышкин. — Всяк норовит на грош пятаков наменять.
— Ослепила корысть, — думчиво молвил Чапурин. — Ослепила она всех, от большого до малого, от первого до последнего. Зависть на чужое добро свет кольцом обвила… Последни времена!
— Ну! Заговори с тобой, тотчас доберешься до антихриста, — сказал Колышкин. — Каки последни времена?.. До нас люди жили не ангелы, и после нас не черти будут. Правда с кривдой спокон века одним колесом по миру катится.
Замолчал Патап Максимыч, а сам все про отца Михаила размышляет. «Неужель и впрямь у него такие дела в скиту делаются!» Но Колышкину даже имени игумна не помянул. Воротясь на квартиру, Патап Максимыч нашел Дюкова на боковой. Измаявшись в дороге, молчаливый купец спал непробудным сном и такие храпы запускал по горнице, что соседи хотели уж посылать в полицию… Не скоро дотолкался его Патап Максимыч. Когда, наконец, Дюков проснулся, Чапурин объявил ему, что песок оказался добротным.
— Как же теперь дело будет? — спросил, зевая во весь рот, Дюков.
— Как лажено, так и будет, — решил Патап Максимыч. — Получай три тысячи. «Куда не шли три тысячи ассигнациями, — думал он, — а уж изловлю же я вас, мошенники!»
— Ладно, — отозвался Дюков, взял деньги, сунул в карман и, повернувшись на другой бок, захрапел пуще прежнего. Вечером выехали из города. Отъехав верст двадцать, Патап Максимыч расстался с Дюковым. Молчаливый купец поехал восвояси, а Патап Максимыч поспешил в Городец на субботний базар. Да надо еще было ему хозяйским глазом взглянуть, как готовят на пристани к погрузке «горянщину».
Леса, что кроют песчаное Заволжье, прежде сплошным кряжем между реками Унжей и Вяткой тянулись далеко на север. Там соединялись они с Устюжскими и Вычегодскими дебрями. В старые годы те лесные пространства были заселены только по южным окраинам — по раменям — вдоль левого берега Волги, да отчасти по берегам ее притоков: Линды, Керженца, Ветлуги, Кокшаги. По этим рекам изредка стояли деревушки, верстах на двадцати и больше одна от другой. Тамошний люд жил как отрезанный от остального крещеного мира. Церквей там вовсе почти не было, и русские люди своими дикими обычаями сходствовали с соседними звероловами, черемисой и вотяками: только языком и отличались от них. Детей крестили у них бабушки-повитухи, свадьбы-самокрутки венчали в лесу вокруг ракитова кустика, хоронились заволжане зря, где попало. «Жили в лесу, молились пенью, венчались вкруг ели, а черти им пели», — так говаривали московские люди про лесных обитателей Заволжского края… Иной раз наезжали к ним хлыновские попы с Вятки, но те попы были самоставленники, сплошь да рядом венчали они не то что четвертые, шестые да седьмые браки, от живой жены или в близком родстве. «Молодец поп хлыновец за пару лаптей на родной матери обвенчает», — доселе гласит пословица про таких попов. Духовные власти не признавали их правильными и законными пастырями… Упрекая вятских попов в самочинии, московский митрополит говорил: «Не вемы како и нарицати вас и от кого имеете поставление и рукоположение»[109]. Но попы хлыновцы знать не хотели Москвы: пользуясь отдаленностью своего края, они вели дела по-своему, не слушая митрополита и не справляясь ни с какими уставами и чиноположениями.
Таким образом, почва для церковного раскола в заволжских лесах издавна приготовлена была. И нынешние старообрядцы того края такие же точно, что их предки — духовные чада наезжих попов хлыновцев. Очень усердны они к православию, свято почитают старые книги и обряды, но держатся самоставленных или беглых попов, знать не хотят наших архиереев. Архиереев и попов австрийской иерархии тоже знать не хотят. Каков поп, таков и приход. Попы хлыновцы знать не хотели Москву с ее митрополитом, их духовные чада — знать не хотели царских воевод, уклонялись от платежа податей, управлялись выборными, судили самосудом, московским законам не подчинялись. Чуть являлся на краю леса посланец от воеводы или патриарший десятильник, они покидали дома и уходили в лесные трущобы, где не сыскали б их ни сам воевода, ни сам патриарх. С XVII столетия в непроходимые заволжские дебри стали являться новые насельники. Остатки вольницы, что во времена самозванцев и ляхолетья разбоем да грабежом исходили вдоль и поперек чуть не всю Русскую землю, находили здесь места безопасные, укрывавшие удальцов от припасенных для них кнутов и виселиц. Беглые холопы, пашенные крестьяне, не смогшие примириться с только что возникшим крепостным правом, отягощенные оброками и податьми слобожане, лишенные промыслов посадские люди, беглые рейтары, драгуны, солдаты и иные ратные люди ненавистного им иноземного строя, — все это валом валило за Волгу и ставило свои починки и заимки по таким местам, где до того времени человек ноги не накладывал. Смуты и войны XVII века в корень расшатали народное хозяйство; неизбежным последствием явилось множество людей, задолжавших в казну и частным людям. Им грозили правеж или вековечное холопство; избегая того и другого, они тоже стремились в заволжские леса. Тогда-то и сложилась пословица: «Нечем платить долгу, дай пойду за Волгу».