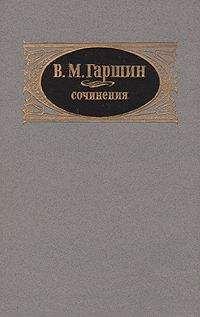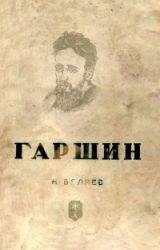Вчера была причина, порядочно разозлившая меня: разругался с Крачковским Не хочется писать даже, что он сделал, об этом чересчур много уже было говорено и надоело до смерти. Скажу только, что он гораздо хуже «Дедова». Ничто так не портит человека, как дешевый успех…*
Е. С. Гаршиной
25 января 1880 г. Петербург
Уже месяц тому назад я решил, а теперь решимость все более укрепляется — уехать из Петербурга в деревню. Мне представляется и место: писаря при сельском ссудо-сберегательном товариществе. Жалование маленькое, кажется, 15 р. в месяц и готовая квартира — отдельный домик, — это материальная обстановка в том случае, если — что не вполне возможно и даже вполне невозможно — я в год не напишу ни строчки «Место служения моего» — село в семи верстах от Самары. Ехать туда придется в марте, в начале или конце — не знаю. Дорога, конечно, на свой счет «Пропагандировать» я в деревне, конечно, не буду. Буду жить, потому что считаю это полезным для себя, а может быть, и сам пригожусь мужикам на что-нибудь.
Дней через пять кончу рассказ для «О. 3.» — не тот большой, о котором я писал вам, а маленький, новый, почти уже написанный — и напишу еще сказку для «Р. Б.»…*
Е. С. Гаршиной
2 февраля 1880 г. Петербург
Начинаю я второе 25-летие своей жизни по-новому, совсем по-новому. Неужели и тут не удастся вывернуться и сделаться путным человеком? О моем личном счастии я теперь, право, не думаю. Чем больше живешь, тем яснее видишь, что в тебе сидит какой-то бес, который положил себе целью отравлять тебе всякую хорошую минуту в жизни. Что уж тут поделаешь? Значит нужно изменить все: забыть всякие претензии на личное благополучие и отдать себе «на съедение» хоть мужикам в деревне. Там, по крайней мере, времени не будет заниматься разными отчаяниями. Хоть какое ни на есть дело, а все-таки дело.
Свой маленький рассказик, я уже переписываю. Вышло нечто сумбурное, смутное, такое, что я и сам многого в нем не понимаю. Ну да все равно, понесу к Салтыкову! Должно быть, напечатает*.
Я ошибся в прошлом письме: я буду жить не в 7, а в 50 в. от Самары, по Оренбургской ж. д. Очень мне хочется поскорее уехать отсюда и засесть в деревню. Ведь это новое, мама, совсем новое, не испытанное еще: на мне будут лежать обязанности. Кажется смешно и говорить об таких «обязанностях». Но как подумаешь, что до сих пор их или не было, или, что вернее, они были (ох, и очень много, дорогая моя), да их не исполнял (по лени, по бесхарактерности), так и эти «жалкие» обязанности представляются чем-то серьезным…
Е. С. Гаршиной
10 февраля 1880 г. Петербург
По правде сказать, 5 февраля так взбудоражило все мое нутро, что эти дни ходил, как оглашенный, и ничего не делал, хотя лично чувствую себя очень хорошо, «личной хандры» (это мой термин для определения моего угнетенного состояния, когда таковое бывает) — личной хандры нет. Но эти трупы просто не дают думать.*
Свой рассказик во вторник снес к Салтыкову; о судьбе его ничего еще не знаю. Теперь ушел в воспоминания и хочу написать несколько эпизодов из войны*. Это будет настоящая проба пера, а то до сих пор все описывал, собственно говоря, собственную персону, суя ее в разные звания, от художника до публичной женщины.
Уезд из Петербурга дело решенное, разве уж какие непредвиденные обстоятельства.
Тургенев, как вы знаете, здесь. Кажется, удастся видеть его, чего мне очень хочется. От Гл. Ив. наслышался о нем много хорошего, как о человеке приободряющем…*
Е. С. Гаршиной
13 февраля 1880 г. Петербург
Рассказ мой Салтыков принял и даже написал, что находит его «весьма хорошим» (напечатают его в 3 книжке). Не знаю, право, точно ли он «весьма» хорош. Быть довольным своим рассказом мне в глубине души пока еще не удавалось. Знаешь, что хотел сделать, а это что никогда не выходит так, как думалось во время писанья. Если не расходятся мои все те же нервы, то писать буду много. Писать что — есть. «Много», — конечно, сравнительно с прежним.
Между прочим, в «Русских Ведомостях» меня приняли. Послал уже другую статейку об акварельной выставке. Предстоит академическая, передвижная, Верещагина. Все это в феврале и начале марта, так что я успею написать обо всем этом. Денег нужно много: главное — книг забрать с собою, а то совсем обалдеешь…
М. Т. Лорис-Меликову
21 февраля 1880 г. Петербург
Ваше сиятельство, простите преступника!
В Вашей власти не убить его, не убить человеческую жизнь (о, как мало ценится она человечеством всех партий!) — и в то же время казнить идею, наделавшую уже столько горя, пролившую столько крови и слез виновных и невиновных. (И) Кто знает, быть может, в недалеком будущем она прольет их еще больше.
Пишу Вам это не грозя Вам: чем я могу грозить Вам? Но любя Вас, как честного человека и единственного могущего и мощного слугу правды в России, правды, думаю, вечной.
Вы — сила, Ваше сиятельство, сила, которая не должна вступать в союз с насилием, не должна действовать одним оружием с убийцами и взрывателями невинной молодежи. Помните растерзанные трупы пятого февраля, помните их! Но помните также, что не виселицами и не каторгами, не кинжалами, револьверами и динамитом изменяются идеи, ложные и истинные, но примерами нравственного самоотречения.
Простите человека, убивавшего Вас! Этим Вы казните, вернее скажу, положите начало казни идеи, ого пославшей на смерть и убийство, этим же Вы совершенно убьете нравственную силу людей, вложивших в его руку револьвер, направленный вчера против Вашей честной груди.
Ваше сиятельство! В наше время, знаю я, трудно поверить, что могут быть люди, действующие без корыстных целей. Не верьте мне, — этого мне и не нужно, — но поверьте правде, которую Вы найдете в моем письме, и позвольте принести Вам глубокое и искреннее уважение
Всеволода Гаршина
Подписываюсь во избежание предположения мистификации.
Сейчас услышал я, что завтра казнь. Неужели? Человек власти и чести! умоляю Вас, умиротворите страсти, умоляю Вас (для) ради преступника, ради меня, ради Вас, ради государя, ради Родины и всего мира, ради бога.
Е. С. Гаршиной
22 февраля 1880 года Петербург.
Сегодня казнь, свалившаяся так удивительно неожиданно, точно с какого неба. Т. е. свалилась-то не казнь, а покушение, казнь — вывод, необходимый или нет — ей богу, не знаю. Кровь возмущает меня, но кровь отовсюду. Казнят (сейчас прочитал в листовке) — на Семеновском плацу, вероятно, для большего стечения публики на приятное зрелище. Тоска, право. Хоть бы как-нибудь да кончить эту ужаснейшую трагикомедию…
М. Т. Лорис-Меликову*
25 февраля 1880 г. Петербург
Ваше сиятельство! Я искренно благодарен Вам за заботы обо мне, но во избежание чересчур больших хлопот считаю необходимым уведомить Вас: 1) о том, что я никогда к «социально-революционной партии» не принадлежал, 2) что, следовательно, я не являюсь изменником ни перед кем, даже перед этой «партиею», 3) что о моем пребывании в Вашем доме в ночь на 22 знают, кроме меня, только четверо из моих ближайших друзей, в том числе моя невеста. За их молчание я ручаюсь собою и прошу только принять меры, чтобы слух о моем буйстве в Вашем доме не вышел из него, если моя просьба не опоздала уже. В минуту, когда я кончаю это письмо, приходит городовой с повесткой из III отделения се. и. в. канцелярии. Письмо Вам я все-таки считаю долгом послать, не зная, буду ли я иметь случай видеть Ваше сиятельство. Вы имеете способность привлекать сердца, и на этот раз привлекли и бедное больное сердце Вашего слуги Вс. Гаршина.
А. Я. Герду
13 марта 1880 г. Тула
Сегодня приехал в Тулу после двухнедельного житья в Москве и поездки в Рыбинск (мне нужно было быть в полку за получением моего офицерского «содержания», которое «вышло», как говорят солдаты, только два месяца назад)
Не знаю, вам, может быть, не приходилось в минуту отчаянья найти правду, к которой я стремился, что было сил, всегда, как только начал сознавать и понимать; вам, может быть, не приходилось надевать себе петлю на шею и потом, — что всего страшнее, — снимать ее. Я не знаю, доходили ли Вы в острые периоды развития до таких минут, но я верю, да пожалуй даже чувствую, по-. жалуй и знаю, что не легко далось вам то сравнительное душевное спокойствие, каким вы обладали всегда, когда я знал вас. Володя старше меня на полгода, но жизнь текла его все-таки ровнее, чем моя Этим и только этим я объясняю то обстоятельство, что даже Володя, который понимает меня с полуслова, почти ничего не понял из моего поведения 15–25 февраля. Он думал даже, что со мною повторяется старая история 1872 года, что я схожу с ума… Господи! да поймут ли, наконец, люди, что все болезни происходят от одной и той же причины, которая будет существовать всегда, пока существует невежество! Причина эта — неудовлетворенная потребность. Потребность умственной работы, потребность чувства, физической любви, потребность претерпеть, потребность спать, пить, есть и так далее. Все болезни А. Я., решительно все, и «социализм» в том числе, и гнет в том числе, и кровавый бунт вроде пугачевщины в том числе.