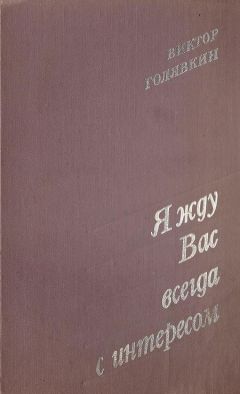— Такие туфли носят только на балах и только в Аргентине, — сказал Васька. — Вовнутрь-то, вовнутрь посмотри!
Он снял туфлю, и я ошалело смотрел внутрь туфли на аргентинское клеймо. А Васька стоял на одной ноге, держась за мое плечо, важный и довольный.
Еще бы! Там, в далекой Аргентине, пляшут на балу аргентинцы в серебряных туфлях, а теперь в них будет ходить по нашим бакинским улицам Васька Котов.
Собирались ребята, охали и ахали и трогали руками серебро.
— Купили на толкучке, — рассказывал Васька. — Совершенно случайно. Абсолютно по дешевке достались, просто-напросто повезло…
Кто-то попросил померить, и Васька сразу ушел. Померить он никому не хотел давать.
В этот вечер мы с ним пошли в оперетту. Я босиком, а он в своих долгоносиках.
Некоторые оперетты мы раз двадцать видели, а тут новую оперетту показывали. Честно гово-ря, мы только потому и ходили на эти спектакли, что через забор лазали. А так с гораздо большим удовольствием в кино пошли бы.
Рядом с его серебряными туфлями нелепыми и безобразными казались мои собственные пыльные ноги, а пальцы, казалось, смешно топорщатся во все стороны.
Да и другие мальчишки в оперетту босиком ходили, никто на них особого внимания не обра-щал. Ничего такого в этом не было, тем более оперетта в летнем саду помещалась.
Васька меня на забор подсадил, снял туфли и мне протянул. Ему в них на забор никак было не забраться. А мне с этими туфлями сидеть на заборе тоже неудобно. Одной рукой туфли держать, а другую ему протягивать.
Кричу:
— Давай скорее руку, а то свалюсь!
Он замешкался, стал почему-то носки снимать, хотя и в носках можно было лезть спокойно. Как раз ребята подошли, торопят, никому неохота в оперетту опаздывать.
В общем, он мне руку подать не успел, я не удержался и на ту сторону свалился вместе с туфлями. Хорошо еще, удачно упал, ничего такого не приключилось. Только в рот земля попала.
Я эту землю выплюнул, встал, отряхнулся и жду, когда Васька появится. Ребят-то там много, помогут ему на забор подняться.
А он все не появляется.
Мимо прогуливаются люди по широкой аллее в ожидании звонка и, как мне кажется, на меня поглядывают.
Тогда я надеваю Васькины туфли на свои ноги и отхожу в более темное место.
Но Васька все не появляется.
Я еще немного постоял и пошел к выходу. А прямо мне навстречу милиционер ведет Ваську за руку. На одной ноге у него носок, а другим носком он вытирает слезы.
Васька, как только увидел меня в своих туфлях, заорал не своим голосом на всю оперетту:
— Свои грязные ноги засунул в мои туфли!!! Ааааа!!!
Даже милиционер растерялся.
— Ты мне смотри, вырываться! — говорит. — Ишь ты! В одном носке в оперетту собрался да еще вырывается!
— Это правда, — кричу я, — на мне его туфли!
— Не суйся не в свое дело! Тоже мне защитник нашелся!
Милиционер меня и слушать не хотел. Вокруг говорят:
— Смотрите-ка, смотрите, у парнишки носок на одной ноге…
— А по-вашему, если бы он в двух носках явился сюда, было бы лучше?
— Ему бы на сцену в таком опереточном виде!
Я стал снимать туфли, чтобы Ваське отдать, но меня оттеснили
Ведут Ваську в пикет. Впереди большущая толпа. Ну и дела!
Пока Ваську вели, он все время оборачивался и повторял:
— Снимай мои туфли! Снимай мои туфли!
Он только о туфлях и думал, смелый все-таки человек, совсем не думал о том, что попался.
Я все старался в пикет пройти, но меня не пустили.
И чего он о своих туфлях расстроился? Не мог же я их все это время в руках держать! Поду-маешь! Как будто бы их помыть нельзя!
Я подхожу к фонтану и тщательно мою его туфли. Все старался поглубже засунуть руку в но-сок, чтобы как можно лучше вымыть. И вдруг замечаю, что эти прекрасные туфли расползаются, а блестящая серебряная краска слезает, как чешуя с рыбы…
В это время из пикета выходит Васька и направляется ко мне.
Подходит.
Я стою, опустив голову, держу в каждой руке по туфле.
Его лицо бледнеет при свете фонарей.
— Ты стер мое аргентинское клеймо?! — вдруг кричит он сдавленным голосом.
Васька Котов выхватывает у меня свои туфли.
— А почему они мокрые? — спрашивает он и бежит к фонарю.
Там, у фонаря, он сразу замечает всю эту ужасную непоправимую перемену со своими туфлями…
— Это не мои туфли!!! — кричит он.
— Все смылось, смылось, смылось… — твержу я.
— Как это смылось?! — орет он визгливо.
Распахнулись двери зала. Народ хлынул из дверей и увлек нас к выходу.
Я потерял в толпе Ваську, но при выходе он снова оказался рядом со мной и прошипел мне в самое ухо:
— Отдавай мне новые туфли… слышишь? Отдавай!
Я понимал его.
— Какие были! — заорал он.
В это же самое время мне наступили на ногу и я скорчился от боли и крикнул ему со злостью:
— Пошел ты от меня со своими долгоносиками!
— Ах, так! — крикнул он и, рывком вырвавшись из толпы, помчался вверх по улице по направлению к дому, а я пошел за ним.
Всю ночь мне снились танцующие аргентинцы в серебряных ботинках, а когда под утро мне стали сниться танцующие крокодилы в серебряных ботинках, я в ужасе проснулся.
Пришел Васька. В каких он был рваных сандалиях! Трудно даже себе представить. Каким-то чудом эти сандалии держались на его ногах.
— Мне нечего надеть, — сказал он тихо.
Я смотрел на его сандалии, вздыхая и сочувствуя ему.
— А те никак нельзя зашить? — спросил я тихо.
— Никак, — сказал он.
— Неужели никак нельзя зашить?
— Они не настоящие, — сказал он, опустив голову.
— Какие же они?
— Они картонные, — сказал Васька.
— Как?
— Они театральные, — сказал Васька. — Все равно бы они развалились…
— Как то есть театральные?
— Ну, специально для театра, на один раз… у них там делают такие туфли на один раз…
— Зачем же тебе их купили?
— Случайно купили…
— Значит, они театральные?
— Театральные… — сказал Васька.
— Тогда черт с ними! — сказал я.
— Черт с ними… — сказал Васька.
— Это замечательно, что они театральные! — сказал я.
Хотя ничего замечательного, конечно, в этом не было. Но все равно это было замечательно!
— Снимай сандалии, — сказал я, — зачем тебе сандалии! Снимай их, и пойдем в оперетту!
Бочка с творогом, кошки в мешке и голуби
У Толи летом погибла дочь. Ей было двенадцать лет, симпатичная девчонка, училась старате-льно. Поехала к бабушке на дачу. В солнечную ясную погоду выехала на велосипеде и, может, пе-рестаралась, нажимая на педали, очень быстро выскочила из-за поворота и навстречу транспорту катила на своем велосипеде по шоссе. А шофер не успел затормозить свой самосвал.
Поехала на дачу и погибла.
Толя дочь похоронил и запил.
День не вышел на работу, второй день, много дней. А работал он тоже шофером, ездил в дальние рейсы в разные города. За прогул его уволили, и с машиной он расстался. И тогда пошел работать грузчиком в продовольственный магазин. Тут он был человек на подхвате: принесет, подтащит и разгрузит что требуется. Работал он на так называемой эстакаде — площадке, где машины товар разгружают, с легкостью и проворством — здоровья он был отменного, с редкою силой. Когда вспоминал о дочери, что ее нет в живых, — выпивал и забывался.
Через некоторое время дом, где летом дочка жила, дотла сгорел от молнии. От всего этого жена захворала, и ее отправили в больницу.
Свалилось на Толю столько, что и врагу своему, как говорится, не пожелаешь. А он продол-жал на своей эстакаде крутиться и вертеться, грузить и разгружать, таскать, возить на тачках товар в разные лотки и палатки. «Сюда, Толя!», «Давай, Толя!», «Быстрей, Толя!», «Нажимай, доро-гой!», «Вези, да поскорее!» — так каждый день. И Толя вез, бегал и нажимал. Не возражал. Парень честный. К работе привык. Выпивал. Да при его здоровье все как слону дробина казалось.
Дальше. Привезли товар. Как всегда. И вместе с другим товаром бочку с творогом. Вкатить такую бочку по доске на эстакаду одному возможно. Но тут доски под рукой не оказалось. Под-нять эту бочку на эстакаду руками навряд ли кому удастся. Творог сам по себе вроде легкий товар, да набито его там черт знает сколько. И вот, разозлившись, может, хлебнув лишнего, решил Толя эту бочку все-таки перекинуть на эстакаду.
— Да неужто ты один собираешься? — спросил шофер.
— Давай тогда вдвоем, — сказал Толя.
Тут подошел один тип и говорит:
— А сколько тебе, парень, платят?
— Пошел бы ты подальше, — отвечает ему Толя.
— Да к тебе с предложением и по-доброму, — тип ему отвечает.
— Катись ты со своими предложениями подальше, — говорит ему Толя.
— Да ты ведь не знаешь, какие мои предложения, — говорит тип.