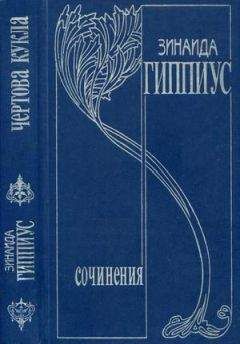У дверей она еще обернулась.
– Спи поздно. Мой-то часов в десять уедет. А мы завтракать станем.
– Ладно.
Она, вспомнив, засмеялась.
– Какой этот твой потешный, говорун-то… Сегодня в Эльдорадке… Так и плывет из него, так и плывет… Ведь это он и есть, к кому ты Верку нашу тогда возил? Расспрошу ее завтра…
– Да иди ты, наконец!
– Ну уж и Кноррище этот… Вот ненавистный! Чисто чугунный! Иду, иду, спи!
Тихо, опять по-мышиному, убежала. Юруля с наслаждением зевнул еще несколько раз, вскочил, сбросил с себя все, повернул кнопку – и огонь электричества провалился.
Утром дождик. В Лизочкиной столовой «под дуб», с одним широким надворным окном – темновато. Завтрак смешной: дорогие сыры, закуски и фрукты из Милютиных лавок, прекрасное вино, а из горячего только и есть, что яйца всмятку.
Но Юрию и Лизочке это нравится, им весело, они смеются.
Подает на стол высокая, черноватая горничная, совсем молодая еще, но худая, точно болезненная. У нее короткий нос и лицо совсем не неприятное, волосы острижены и вьются.
– Верка! – кричит ей Лизочка. – Ей-Богу, вот смешной-то! Так и катит, так и катит! А видать, что ни скажи, – сейчас поверит! Дурынды они все, должно быть. И выдумает же этот Рулька, право! В курсистку играть!
Верка смеется, показывая тесные, белые зубы.
– Да как же ты? – пристает Лизочка. – Расскажи по порядку.
– Уж забыла, должно быть. У меня после больницы, от тифа этого, память такая стала…
– Ну, не ври! Чего тут, садись с нами. Я тебе икема налью. А ты расскажи. Мне интересно, потому что я вчера в Эльдорадке этого Морсова все слушала. Садись, садись.
Верка – давняя Лизочкина подруга. Года полтора тому назад, когда Юрий знал ее, она хорошо была пристроена, с богатеньким офицером, и даже Лизочке покровительствовала. Лизочку – тогда еще глупенькую, еще черноволосую девочку, Юрий однажды у нее видел мельком. С тех пор дела повернулись. Верке сильно не повезло. Запуталась в какую-то глупую историю, потом заболела воспалением легких, а выздоравливая, – схватила в больнице тиф. К весне едва выписалась. Ни кола ни двора. На улицу идти у Верки свой гонор, да и соображенье есть.
Лизочка – добрая душа, а тут и Юрий посоветовал: «Да возьми ты ее к себе в горничные. Сама все ноешь, что с „хамками“ не можешь сладить. Кухарку брось, дома ведь никогда не обедаешь, лакей у тебя при карете, а с Веркой отлично будет. И мне уж надоели эти соглядайки. Не повернись».
Так и устроились. Верка была довольна. Она после болезни слабая. А в белом переднике дверь дяде Воронке отворить, да с граммофона пыль смахнуть – отдых, а не работа. Они обе – Лизочка-госпожа и Верка-горничная очень естественно приняли данное положение. Так оно есть – чего же еще? Верка называла Лизочку «барыней», а Лизочка, при других, говорила даже ей «вы», как следует.
Порой они ругались, Верка «отвечала», но не более, чем настоящая горничная.
Старые «дела» Юрия с Веркой решительно никого не смущали. Они были забыты. Впрочем, Верка и прежде никогда Юрию не нравилась особенно. У нее осталась к нему послушливая преданность.
По приглашению развеселившейся Лизочки Верка, не жеманясь, села за стол и вино выпила.
– А ты его в гости не звала? – спросила она Лизочку про Морсова, переходя на дружеское «ты». – Вот интересно, еще узнал бы меня.
Лизочка захохотала.
– Никогда бы не узнал! Порожела ты с той поры здорово!
– Вот еще! Я поправлюсь, – сказала Верка, нимало не обижаясь.
– Ну ладно, ты мне расскажи обстоятельно! От него ничего толком не добьешься, – кивнула Лизочка на Юрулю. – Вот, сидит и смеется. Ну говорит, двоюродная сестра, ну курсистка, а ты что?
– Да я что? Мне тоже интересно. Он всегда, бывало, выдумывает… Научил меня, а память у меня была хорошая…
– Ну, ну? – нетерпеливо допрашивала Лизочка. – Чему ж он тебя научил? И как же там было?
Юруля, улыбаясь лениво, поощрил:
– Да расскажи ей, Верка. Я уж и сам забыл. Теперь уж этого и нет ничего.
– Нету? – спросила Лизочка с сожалением. – Что ж они? Рассорились все?
– Ну, много ты понимаешь. Я говорю про те вечера, на который я Верку повез. Да тебе не втолкуешь. Пусть Верка расскажет.
– А и смешно было, Лиза, – начала та с одушевлением. – Говорит он мне вдруг, хочешь, говорит, я тебя в самое что ни на есть утонченное общество свезу? Настоящие, говорит, аристократы, и ты между ними будешь. Я гляжу на него, а он смеется: аристократы. Как? духа, что ли? Это, мол, еще выше, да и забавнее. Наилучшие художники и писатели, говорит, строго между собой собираются и утонченно по-своему веселятся, и лишнего никто не допускает. А я тебя привезу.
– Ишь ты! – сказала завистливо Лизочка. – Я бы боялась. Выгнали бы еще скандально, если строго и на дому.
– Ну, я не боялась. Во-первых, что какие это там такие аристократы, точно мы их не видим, а затем он меня научил ловко. Оделась я в простую юбку и блузку белую, ну, пояс кожаный, однако все новенькое. Волосы наушниками, и будто я его двоюродная сестра, курсистка из Москвы. И будто я тоже, не хуже их, стихи могу писать, и стихи дал на бумажке, велел наизусть на случай выучить. А у меня память была о-отличная…
– Неужели помнишь? – воскликнула Лизочка. – А ну-ка, скажи! Скажи, душка!
– Теперь, после больницы, уж не знаю… Вспомню, так скажу. Ты слушай по порядку.
– Ну?
– Ну вот, и будут тебя, говорит, звать София, что значит премудрость.
– Сонька, попросту.
– Не Сонька, а София. И должны там все, самые солидные, и господа, и дамы, надевать костюмы, а меня, когда мне костюм станут предлагать, научил, что ответить.
– Что же?
– А вот погоди. И должны там все лежать…
– Это что же? – разочарованно фыркнула Лизочка. – Сразу же и ложатся?
Юрий усмехнулся.
– Глупенькая! Это они за столом должны возлежать… Это давным-давно такая мода была…
– Ну да, возлежать, – поправилась Верка. – На столе кушанья, вино, а они вокруг, только вместо стульев обязательно кушетки, на них и возлагаются.
– И ты возложилась?
– Погоди. Он научил меня: больше все молчать и глядеть строго и скромно, И если, говорит, пакости какие увидишь, – мало ли что покажется! – не обращай внимания, не хохочи, гляди строго, с благоволением, и не думай чего-нибудь: это они по примеру самых благородных древних фамилий.
Лизочка не выдержала.
– Нет, ну и дура же ты, Господи! Уж я бы не попалась. Это просто он тебя надувательски надул, вот и хохочет теперь! Просто повез тебя в самое последнее место. Хороша!
Верка смутилась было. Но Юрий, продолжая смеяться, сказал:
– Не бойся, Верка, не слушай! Я тебя ни капельки не обманывал! Настоящее было место, и аристократия настоящая.
Лизочка не унималась.
– Нет, Морс-то, Морс-то! Посмотреть – манеры самые деликатные.
– А ты на него напрасно, он ничего, ни-ни, вежливый, и все так гладко. И костюм на нем такой длинный был, пестрый, ногами даже путался. Другие многие, действительно…
– Похабничали?
– Ну… Мне что? Я гляжу да молчу. И все, милая моя, говорят, говорят… Вино в чашках. Чашку не выпьет, в руках держит, говорит-говорит, насилу опрокинет.
– И все стихами?
– Всяко. Я не слушаю, свои в уме держу, кабы не забыть. На головах венки из цветов, живые, ну и повяли, потому на проволоках.
– И ты с венком?
– Нет. Я не приняла. Ты слушай. Когда это уж достаточно поговорили и поугощались, Юрка вдруг встает и объявил: София, говорит, желает теперь высказать свою причину, почему она отказалась надеть костюм и остается среди всех в своем обыкновенном платье.
– Так и объявил? Ух ты батюшки! А ты что ж?
– А я уж знала. Взяла свою чашку, подняла вот так… – Верка подняла стакан с икемом, – ну и сказала…
– Да что ж ты сказала?
– Вот забыла, как сказала, – вздохнула Верка. – Вот уж и не сказать теперь так ни за что, хоть убей. С голосом учила. Я между вами, говорю, одна без костюма потому…. потому…
– Эх, да ну тебя!
– Потому, мол, что костюм – это… полумера, что ли?.. Она беспомощно взглянула на Юрулю. Но тот коварно молчал, улыбаясь.
– Одним словом, постой, – продолжала Верка. – Одним словом, что они все трусы, что желают все… да, освобождения от условий и, кроме того, красоты, а что для этого, – я будто чувствую и знаю, – надо собираться совершенно обнаженно, потому что в теле красота, а не в костюме. И в красоте чистота, и я, мол, одна это понимаю, потому что я вот, чистая девушка, сейчас бы готова на это, но вижу, что они еще не готовы, и сижу в своем платье скромно, а в костюм, однако, наряжаться не согласна, это, мол, только себя обманывать. Не истинная красота.
Верка проговорила все это одним духом, глядя на Юрулю. Тот покачал головой.