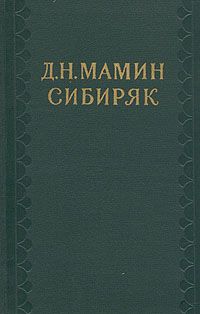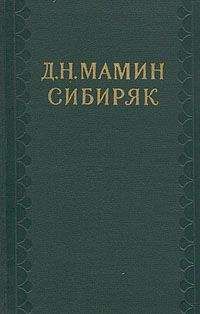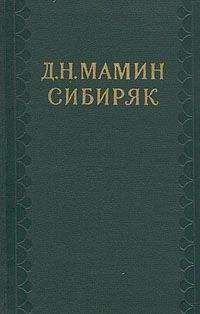— Соломонида Потаповна совершенно права по-своему, — спокойно заговорил Блескин. — Ей так нравится — значит, хорошо, и так быть должно. Заставлять ее одеваться именно так, как это тебе нравится, это… просто самодурство. Прежде всего в каждом человеке нужно уважать его личность.
— А если это безобразно, вот это самое шерстяное платье? И если Соломонида Потаповна не понимает этого безобразия? Я только желаю объяснить ей, а не принуждаю… Думаю, что я немножко больше ее понимаю, и на этом основании беру на себя смелость давать советы.
— Напрасная самоуверенность… Все это дело вкуса, а о вкусах не спорят.
— Наконец, если вообще мне это неприятно?.. Мне просто отравляет жизнь вот это самое проклятое платье с оборками…
— Ну, это уж прихоти, голубчик, и некоторый мещанский эгоизм.
— Вот не угодно ли, — обратился опять Рубцов ко мне, как к третейскому судье — Их двое, а я один… Стоит мне рот раскрыть, как у Соломюниды Потаповны является защитник, и я же остаюсь кругом виноват.
— Что же, я могу и не говорить… — заметил Блескин все с тем же неуязвимым спокойствием.
Рубцов только махнул рукой и забегал по комнате своим мелким) шагом.
Проснувшийся ребенок вывел всех из затруднения. Он улыбался и смешно взмахивал ручонками, точно хотел вспорхнуть. Рубцов наклонился над кроваткой, и маленькое розовое личико ответило беззубой улыбкой. Но это веселое настроение быстро сменилось первой гримасой, кряхтеньем и отчаянным плачем.
— Эк тебя взяло!.. — выругался Рубцов, оглядываясь. — Куда это моя дама ушла?.. Вечно уйдет именно в то время, когда ребенок проснется…
— Это она нарочно делает, чтобы огорчить тебя, — объяснял Блескин, поднимаясь с места. — Или, может быть, ребенок выжидает, когда останется с глазу на глаз с папашей, и нарочно заревет, чтобы досадить…
Блескин спокойно подошел к кроватке, спокойно взял своими большими руками плакавшего ребенка и вынул его из кроватки. Маленький плакса сейчас же начал улыбаться прежней улыбкой и, забавно вытаращив светлые большие глаза, аппетитно принялся сосать свой розовый кулачок. Рубцов облегченно вздохнул и сейчас же повеселел.
— Нюта… Нюта… Нюта… — повторял Блескин, осторожно подбрасывая ребенка к самому потолку. — Маленькая барышня Нюта… Смотри, какой у тебя глупый папка!..
Барышня Нюта болтала голыми кривыми ножонками и захлебывалась от удовольствия, пуская слюни прямо на руку своей бородатой няньки.
— А мне стоит только взять эту барышню на руки, так она зальется таким отчаянным ревом, точно ее режут, — объяснял с улыбкой Рубцов. — Разбойник будет девка.
Явившаяся из кухни Соломонида Потаповна вся заалелась, когда увидела ребенка на руках у Блескина.
— Дайте мне ее сюда… — бормотала она, стараясь отнять ребенка, которого Блескин поднял к самому потолку. — Анка, Анка, подь ко мне!..
Всем сделалось как-то вдруг весело, и в этом хорошем настроении сели за обед. Обедали на Мочге рано, потому что вставать приходилось часов в пять утра. Когда мы уже кончали есть, в открытом окне показалась голова старика Потапа и сейчас же скрылась. Это вызвало общий смех.
— Эй, Потап, чего ты прячешься? — позвал его Рубцов. — Садись с нами обедать.
Голова Потапа опять показалась в окне; его лицо улыбалось нерешительно-заискивающей улыбкой.
— Спасибо, Михал Павлыч… — пробормотал старик, переминаясь с ноги на ногу. — Я уж тово, пообедал. На минутку завернул… Сейчас побегу на прииск, а то старуха загрызет. Михал Павлыч, родимый мой, всю поясницу у меня разломило…
— Тятенька, как тебе не совестно? — оговорила отца Соломонида Потаповна и сердито нахмурилась. — Вот ужо я скажу мамыньке, как ты водку здесь клянчишь…
— Ну, поди, поди к матери-то!.. — поддразнивал Потап. — Она те покажет…
— Так тебе лекарство нужно? — спрашивал Рубцов, наливая походный серебряный стаканчик.
— Михал Павлыч, родимый мюй… то есть так ухватило, так ухватило!..
— Зачем это вы, Михал Павлыч, напрасно старика балуете? — ворчала Соломонида Потаповна. — Разве это порядок…
Голова Потапа исчезла, но еще раз появилась в окне и проговорила:
— Михал Павлыч, родимый мой… ради ты истинного Христа николды не слушай этих самых баб!
— Ступай, ступай, нечего тебе тут делать… — ворчала на отца Соломонида Потаповна.
— Солонька… кто я тебе, а?.. Значит, тебе родной отец в том роде, как березовый пень… ладно!.. Погоди…
Блескин улыбался, а Рубцов выпил еще лишнюю рюмку водки.
Мне показалось, что между друзьями пробежала черная кошка и что прежняя товарищеская непринужденность исчезла навсегда, хотя они сами не желали убедиться в этом. Притом являлась мысль, что Рубцов точно ревнует Блескина — выходило как-то так, что Блескин стоял ближе к Соломюниде Потаповне, лучше ее понимал и умел заставить ее сделать по-своему. Между ними установилась та тонкость понимания, которая обходится без слов, и это мучило Рубцова, как мучила его и авторитетность Блескина.
Бывая часто на Мочге, я теперь останавливался уже в новой комнатке Блескина, где и место было свободное на мюй пай, и заветная полочка с книжками, и, главное, сознание, что здесь никого не стесняешь своим присутствием. Рубцов тоже любил частенько завертывать в эту комнату и подолгу засиживался здесь за разными хорошими разговорами. Тут же неизменным сочленом нашей компании являлся большой серый кот. Это был тот самый серый котенок, который год назад смешил Блескина своими проделками до слез. Рубцов называл этого кота «мыслящим реалистом».
— Я когда-нибудь из этого мыслящего реалиста великолепный препарат сотворю, — уверял Рубцов, чтобы побесить Петьку.
Вообще в комнатке Блескина, как мне казалось, Рубцов на время делался прежним Рубцовым, и по-прежнему мы под треньканье гитары распевали студенческие песни, а Рубцов обязательно плакал, если был выпивши, что с ним случалось довольно часто. Но вообще все это было одной формой, внешней декорацией, а прежнего духа уже не существовало более: являлась какая-то невидимая тяжелая рука и тушила беззаботное веселье.
Мне привелось сделаться свидетелем этой жизни приисковой конторы до мельчайших подробностей, но это тяжелое новое нельзя было объяснить только тем, что в конторе поселилась Солонька, нет, дело было гораздо серьезнее. Появились такие вопросы, о которых не говорила ни одна из заветных книжек, а главное, нельзя было не предвидеть появления все новых и новых комбинаций. Из-за дрязг и мелочей специальносемейной жизни Рубцова на приисковую контору надвигалась какая-то грозовая туча, и все переживали то нервное беспокойство, которое испытывается перед грозой.
Соломонида Потаповна вела жизнь совершенно растительную и, видимо, очень скучала. По утрам она училась читать с Блескиным, но занятия шли очень лениво, и ученица только потела или принималась зевать. Блескину стоило невероятных усилий научить ее читать, но зато дальше Соломонида Потаповна уперлась и ничего слышать не хотела ни об арифметике, ни о чтении хороших книжек.
— Неужели тебе хочется дурой остаться? — спрашивал иногда Рубцов, выведенный из терпения. — Кажется, времени свободного у тебя достаточно, а без дела одурь возьмет.
— Какая уж есть… — упрямо отвечала Соломонида Потаповна, сдвигая свои соболиные брови. — Вам что за печаль: дура была, дурой и останусь. Свои глаза-то у вас были… Ведь не венчанные: не поглянулась, и уйду.
— Это — какое-то идиотство!.. — возмущался Рубцов, отступаясь.
Такие разговоры обыкновенно приводили к размолвкам, но Соломонида Потаповна отлично понимала все преимущества своего нелегального положения и не упускала случая воспользоваться всеми его выгодами, то есть она всегда повторяла «уйду», хотя видела, что это невозможно — их связывал ребенок. К этому ребенку Соломонида Потаповна относилась както равнодушно, так что, собственно, возился с ним больше Блескин: он вставал для этого даже ночью. В своем роде получалась замечательная картина: Блескин уносил в свою комнату маленькую Нюту вместе с колыбелькой и сидел над ней вместе с серым котом.
Любимым занятием Соломониды Потаповны было выйти на крылечко, сесть на ступеньку и сидеть здесь, пощелкивая кедровые орехи без конца. Солнце печет нещадно, в воздухе налита какая-то смертная истома, а Соломонида Потаповна сидит на своем крылечке, и только летят скорлупы. И это изо дня в день… Можно себе представить положение университетских друзей, когда пред их глазами торчал этот вечный живой упрек. Некоторое оживление Соломонида Потаповна испытывала только в моменты, когда кучер Софрон начинал наигрывать на своей гармонии разные залихватские приисковые «наигрыши» или штегерь Епишка выкидывал какое-нибудь коленце помудренее. Эти глупые люди, порядком нечистые на руку, очевидно, были ближе Соломониде Потаповне, и она кокетливо закрывалась рукой, чтобы не выдать душивший ее смех.