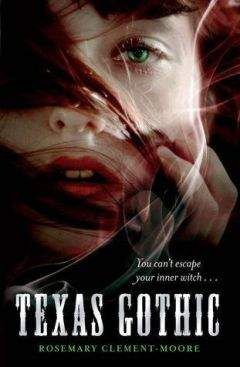Идя по улице и размышляя о том, что сестры избрали благой путь для установления хороших обычаев в общении с мирскою властью, я придумывал, что предпринять нашему монастырю, чтобы достичь столь же благоприятных результатов. Следовало бы - думал я - проявить какую-либо услужливость, принести помощь в некотором трудном предприятии власти и вообще показать, что замкнутость наша отнюдь не злонамерена, а лишь по уставу. Занятый подобными мыслями, я был кем-то окликнут по имени. Я поднял глаза, и они тотчас опустились опять сами собою: впереди меня стояла бывшая матушка Авдотья Ивановна.
- Что не зайдешь? - спросила она, подвигаясь ко мне совсем близко.
- Много хлопот, - ответил я, сгорая от боязни, что Авдотья Ивановна попрекнет меня за недостойное мое поведение в памятный вечер.
- Мой пьет, - продолжала она, и голос ее упал, - а я все одна...
Авдотья Ивановна взяла меня за руку, и лица моего коснулось ее дыхание.
- Зашел бы, - сказала она, - посидеть...
Я решился взглянуть на нее. Стан ее был округл и крепок, тонкое платье на груди колебалось, во взгляде ее мне почудилась насмешка и как бы ласковость.
- Благодарствуйте на приглашенье, - проговорил я раскашлявшись, так как в горле моем образовалась сухость. - Мне пора...
Авдотья Ивановна необыкновенно сжала мне руку и крикнула вслед, когда я уже отошел на много шагов:
- Так ты приходи!..
Достигнув монастыря почти бегом, я стал искать себе успокоения, чтобы хоть кратко доложить отцу Рафаилу о деле с колоколом и о том, что из него проистекло. Я прохаживался и сидел на берегу Гордаты, в надежде на целебное свойство природы, беседовал с приютскими детьми, чтобы развлечься, тщетно начинал молиться. Спокойствие не возвращалось мне. К великому моему счастью, отец Рафаил не пожелал меня видеть, и я остался наедине с собою в тихой своей келии.
Мысли мои мешались, и я не знал, чего хочу. Происшествия дня заново предстали пред моими глазами: таинственное и бесследное исчезновение Афанасия Сергеевича Пушкина; решимость отца Рафаила, поведшая его на унижение игумнова сана; прибытие в монастырь светской власти, могущее иметь необозримые последствия; наконец, беседа с бывшей матушкой Авдотьей Ивановной, которая нисколько на меня не разгневалась, чего я пуще всего боялся. Так, терзая себя этими мыслями, я втайне чувствовал, что одна из них превосходней и неотступнее других. Авдотья Ивановна стояла живой подле меня в тишине келии и я, облитый потом, смотрел на ее платье и видел ее - какою запечатлелась она в моей памяти с незабвенного вечера у Симфориана.
Сейчас, пиша эти строки, я преобореваю свое томление. Тогда же я бросил с ожесточением тетрадь с хроникой и оплакивал себя, несчастного, и смеялся неведомо чему. Потом схватил лист бумаги и неожиданно, без всякой мысли и без единой помарки, написал впервые в жизни стих. Прочитав его, плакал еще больше и решил непременно показать его Симфориану.
С этой целью, после бессонной ночи, я пошел в редакцию "Наровчатской Правды". Там я застал Антипа Грустного, сидевшего на краешке скамьи. Я открыл было рот, чтобы поздороваться, но он погрозил мне пальцем. Я подсел к нему, и он шепнул мне в ухо, показывая на закрытую дверь:
- Тише: там читают мое новое сочинение.
- Кто? - спросил я шепотом.
- Симфориан. Тш-ш-ш.
Мы посидели в неподвижности несколько минут. Потом дверь шумно раскрылась, и к нам вышел Симфориан. Он протянул Антипу рукопись и сказал кратко:
- Хлам.
Антип бережно сложил потрепанные листки бумаги, спрятал их за пазуху и робко проговорил:
- У меня есть еще одно произведение...
Но Симфориан не дал ему договорить:
- Не надо мне твоих произведений, сделай милость.
После этих слов Антип беззвучно удалился, а Симфориан спросил меня:
- Ну, а ты что? Тоже навараксал какое-нибудь произведение?
Услышав это, я тотчас решил ни за что не показывать своего стиха; к тому же страшная мысль пришла мне на ум: Симфориан непременно должен догадаться, что это его супруга Авдотья Ивановна вдохновила меня на сочинение.
- Стихи, что ли, написал? - спросил Симфориан.
- Да, действительно, но только мне стыдно показать, потому что это со мной первый раз...
- Брось ты это дело, - присоветовал Симфориан, кладя на мое плечо руку, - пиши, брат, по специальности.
- Как же так? - не понимая, спросил я.
- Да ты кто по профессии? - сказал он, - чернец? Стало, твоя специальность - божественное бытие. Вот и пиши нам в газету для безбожного отдела...
Я перекрестился и не знал, что сказать. Между тем, Симфориан засмеялся и, как видно, нечаянно посмотрел под скамью, на то место, где сидел Антип Грустный. Потом он плюнул и убежал в другую комнату.
Довольный прекращением тягостного для меня разговора, я пошел к выходу, полагая, что Симфориан плюнул с досады, что я перекрестился. Но при этом я сам взглянул под скамью. В том месте, где до того сидел Антип, на полу стояла невеликая лужица. Пожалуй, лужицу оставил Антип от волнения или по болезни, и это, наверно, на нее плюнул Симфориан.
Сегодня, в воскресное утро, когда заблаговестили к обедне, выглянув в окно, я увидел всеобщее беспокойство. Люди выбегали из корпусов, направляясь к задним воротам, приютские дети что-то голосили, пробежал кое-кто из нашей братии. Я вышел на крыльцо узнать, что происходит.
Оказалось, неизвестный труп утопшего человека был за ночь вынесен рекою Гордатой на берег, к нашему монастырю.
Вместе с другими братьями и незнакомыми людьми, пришедшими к обедне, я поспешил на берег. Пробираясь к месту происшествия и прислушиваясь к тому, что кругом говорили, я понял, что утопленник никем не может быть опознан. Наконец, я растолкал людей и подошел к покойнику. Сердце у меня билось тревожно, и, хотя я творил про себя молитву, мысли мои были неясны. Человек лежал ногами вверх по скату берега, головою к реке, так что вода омывала длинные волосы утопшего. На его шею намоталась плавучая трава ряска, лицо весьма приметно вспухло.
Как ни приучаем мы себя к мысли о бренности всего сущего, но даже постриженные чернецы и монахи великого подвига не могут видеть смерть с совершенным спокойствием. Я отвел глаза от головы мертвеца и стал осматривать его одежду. Тогда меня бросило в страшную дрожь, и холодный пот выступил на моем лбу. Одежда, прикрывавшая тело несчастного, была известною крылаткою Афанасия Сергеевича Пушкина. Я опять взглянул в лицо усопшего. Не оставалось сомнения: утопленник был не кто иной, как таинственно исчезнувший Афанасий Сергеевич.
Обезображенный насильственной смертию, он все же сохранил черты своего образа, и оспины были видны на его лице, и губы и нос могли принадлежать только ему. Единственно, что помешало скорому опознанию покойного - это волосы. Темнорусых, курчавых волос Афанасия Сергеевича, делавших его столь похожим на прославленного поэта, как не бывало. С головы Афанасия Сергеевича, вымоченные и распрямленные водою, спускались желтоватые пряди волос, и знаменитые бакенбарды были совершенно рыжи и нимало не курчавы. Подумать только, что этот человек всю жизнь красился!
Я закрыл свое лицо руками и побрел в монастырь.
Господи сил, помилуй нас!
Три дня я не мог прийти в себя. Образ Афанасия Сергеевича, лежащего на берегу головою к реке, его потерявшие краску волосы, омываемые водою, не отступали от моего мысленного взора. Удел покойника страшил меня.
На четвертый день я вышел из монастыря, чтобы, не дойдя до города, опрометью броситься назад и замкнуться у себя в келии. То, что я узнал, потрясло меня не менее, нежели смерть Афанасия Сергеевича. Именно, эта несчастная смерть, однако, вызвала другое великое несчастье: скончался вследствие отравления неизвестным напитком Симфориан Бесполезный. Мне неизвестно в подробностях, как это случилось, и я записываю только слышанное от других лиц. Известно, что Симфориан приходил в мертвецкую городской больницы проститься с телом Афанасия Сергеевича. После того он пожелал непременно напечатать в газете некролог об усопшем и, действительно, написал замечательную статью о личности покойного Пушкина. Но в газете над ним посмеялись и поместить статью не захотели, так что Симфориан, в раздражении, поклялся никогда в жизни не брать в руки пера. Потом его видели в нетрезвом состоянии на улице, а затем стало известно, что, придя домой, он много выпил неизвестной жидкости, и скончался без покаяния и причастия.
Я чувствую, что не в силах продолжать ведение хроники с тем тщанием, какое подобает этому полезному делу. Однако я запишу и о других событиях, которые стали мне известны со стороны. По приказу председателя совета отстранен от обязанностей начальник городской милиции Макарушкин, как рассказывают, - за писание бумаг, не имеющих смысла. Неизвестно, разумелась ли тут бумага, отправленная Макарушкиным покойному Афанасию Сергеевичу Пушкину, или еще какие-нибудь документы.