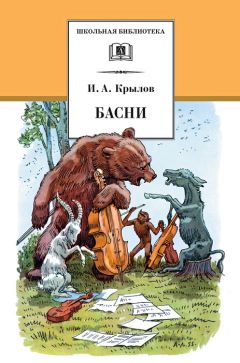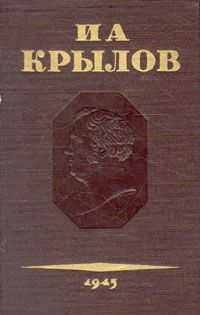Бочка[37]
Приятель своего приятеля просил,
Чтоб Бочкою его дни на три он ссудил.
Услуга в дружбе – вещь святая!
Вот если б дело шло о дéньгах, речь иная:
Тут дружба в сторону, и можно б отказать, —
А Бочки для чего не дать?
Как возвратилася она, тогда опять
Возить в ней стали воду.
И все бы хорошо, да худо только в том:
Та Бочка для вина брана откупщиком,
И настоялась так в два дни она вином,
Что винный дух пошел от ней во всем:
Квас, пиво ли сварят, ну даже и в съестном.
Хозяин бился с ней близ году:
То выпарит, то ей проветриться дает;
Но чем ту Бочку ни нальет,
А винный дух все вон нейдет,
И с Бочкой наконец он принужден расстаться.
Старайтесь не забыть, отцы, вы басни сей:
Ученьем вредным с юных дней
Нам стоит раз лишь напитаться,
А там во всех твоих поступках и делах,
Каков ни будь ты на словах,
А все им будешь отзываться.
Пастух у Ручейка пел жалобно, в тоске,
Свою беду и свой урон невозвратимый:
Ягненок у него любимый
Недавно утонул в реке.
Услыша пастуха, Ручей журчит сердито:
«Река несытая! что, если б дно твое
Так было, как мое,
Для всех и ясно, и открыто,
И всякий видел бы на тинистом сем дне
Все жертвы, кои ты столь алчно поглотила?
Я чай бы, со стыда ты землю сквозь прорыла
И в темных пропастях себя сокрыла.
Мне кажется, когда бы мне
Дала судьба обильные столь воды,
Я, украшеньем став природы,
Не сделал курице бы зла:
Как осторожно бы вода моя текла
И мимо хижинки, и каждого кусточка!
Благословляли бы меня лишь берега,
И я бы освежал долины и луга,
Но с них бы не унес листочка.
Ну, словом, делая путем моим добро,
Не приключа нигде ни бед, ни горя,
Вода моя до самого бы моря
Так докатилася чиста, как серебро».
Так говорил Ручей, так думал в самом деле.
И что ж? Не минуло недели,
Как туча ливная над ближнею горой
Расселась:
Богатством вод Ручей сравнялся вдруг с рекой;
Но, ах! куда в Ручье смиренность делась?
Ручей из берегов бьет мутною водой,
Кипит, ревет, крутит нечисту пену в клубы,
Столетние валяет дубы,
Лишь трески слышны вдалеке;
И самый тот пастух, за коего реке
Пенял недавно он таким кудрявым складом,
Погиб со всем своим в нем стадом,
А хижины его пропали и следы.
Как много ручейков текут так смирно, гладко
И так журчат для сердца сладко,
Лишь только оттого, что мало в них воды!
«Куда так, кумушка, бежишь ты без оглядки?» —
Лисицу спрашивал Сурок.
«Ох, мой голубчик куманек!
Терплю напраслину и выслана за взятки.
Ты знаешь, я была в курятнике судьей,
Утратила в делах здоровье и покой,
В трудах куска недоедала,
Ночей недосыпала:
И я ж за то под гнев подпала;
А все по клеветам. Ну, сам подумай ты:
Кто ж будет в мире прав, коль слушать клеветы?
Мне взятки брать? да разве я взбешуся!
Ну, видывал ли ты, я на тебя пошлюся,
Чтоб этому была причастна я греху?
Подумай, вспомни хорошенько».
«Нет, кумушка; а видывал частенько,
Что рыльце у тебя в пуху».
Иной при месте так вздыхает,
Как будто рубль последний доживает:
И подлинно, весь город знает,
Что у него ни за собой,
Ни за женой, —
А смотришь, помаленьку
То домик выстроит, то купит деревеньку.
Теперь, как у него приход с расходом свесть,
Хоть по суду и не докажешь,
Но как не согрешишь, не скажешь,
Что у него пушок на рыльце есть.
Попрыгунья Стрекоза
Лето красное пропела;
Оглянуться не успела,
Как зима катит в глаза.
Помертвело чисто поле;
Нет уж дней тех светлых боле,
Как под каждым ей листком
Был готов и стол, и дом.
Все прошло: с зимой холодной
Нужда, голод настает;
Стрекоза уж не поет:
И кому же в ум пойдет
На желудок петь голодный!
Злой тоской удручена,
К Муравью ползет она:
«Не оставь меня, кум милой!
Дай ты мне собраться с силой
И до вешних только дней
Прокорми и обогрей!»
«Кумушка, мне странно это:
Да работала ль ты в лето?» —
Говорит ей Муравей.
«До того ль, голубчик, было?
В мягких муравах у нас
Песни, резвость всякий час,
Так, что голову вскружило».
«А, так ты…» – «Я без души
Лето целое все пела».
«Ты все пела? это дело:
Так поди же попляши!»
Из дальних странствий возвратясь,
Какой-то дворянин (а может быть, и князь),
С приятелем своим пешком гуляя в поле,
Расхвастался о том, где он бывал,
И к былям небылиц без счету прилагал.
«Нет, – говорит, – что я видал,
Того уж не увижу боле.
Что здесь у вас за край?
То холодно, то очень жарко,
То солнце спрячется, то светит слишком ярко.
Вот там-то прямо рай!
И вспомнишь, так душе отрада!
Ни шуб, ни свеч совсем не надо:
Не знаешь век, чтó есть ночная тень,
И круглый Божий год все видишь майский день.
Никто там ни сади́т, ни сеет:
А если б посмотрел, чтó там растет и зреет!
Вот в Риме, например, я видел огурец:
Ах, мой Творец!
И по сию не вспомнюсь пору!
Поверишь ли? ну, право, был он с гору».
«Что за диковина! – приятель отвечал. —
На свете чудеса рассеяны повсюду;
Да не везде их всякий примечал.
Мы сами вот теперь подходим к чуду,
Какого ты нигде, конечно, не встречал,
И я в том спорить буду.
Вон видишь ли через реку тот мост,
Куда нам путь лежит? Он с виду хоть и прост,
А свойство чýдное имеет:
Лжец ни один у нас по нем пройти не смеет;
До половины не дойдет —
Провалится и в воду упадет;
Но кто не лжет,
Ступай по нем, пожалуй, хоть в карете».
«А какова у вас река?»
«Да не мелка.
Так видишь ли, мой друг, чего-то нет на свете!
Хоть римский огурец велик, нет спору в том,
Ведь с гору, кажется, ты так сказал о нем?»
«Гора хоть не гора, но, право, будет с дом».
«Поверить трудно!
Однако ж как ни чýдно,
А всё чудён и мост, по коем мы пойдем,
Что он Лжеца никак не подымает;
И нынешней еще весной
С него обрушились (весь город это знает)
Два журналиста да портной.
Бесспорно, огурец и с дом величиной
Диковинка, коль это справедливо».
«Ну, не такое еще диво;
Ведь надо знать, как вещи есть:
Не думай, что везде по-нашему хоромы;
Что там за дóмы:
В один двоим за нýжду влезть,
И то ни стать ни сесть!»
«Пусть так, но все признаться должно,
Что огурец не грех за диво счесть,
В котором двум усесться можно.
Однако ж мост-ат наш каков,
Что лгун не сделает на нем пяти шагов,
Как тотчас в воду!
Хоть римский твой и чуден огурец…»
«Послушай-ка, – тут перервал мой Лжец, —
Чем на мост нам идти, поищем лучше броду».
Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник,
И дело не пойдет на лад.
Да и примечено стократ,
Что кто за ремесло чужое браться любит,
Тот завсегда других упрямей и вздорней:
Он лучше дело все погубит
И рад скорей
Посмешищем стать света,
Чем у честны́х и знающих людей
Спросить иль выслушать разумного совета.
Зубастой Щуке в мысль пришло
За кошачье приняться ремесло.
Не знаю: завистью ль ее лукавый мучил
Иль, может быть, ей рыбный стол наскучил?
Но только вздумала Кота она просить,
Чтоб взял ее с собой он на охоту,
Мышей в амбаре половить.
«Да, полно, знаешь ли ты эту, свет, работу? —
Стал Щуке Васька говорить. —
Смотри, кума, чтобы не осрамиться:
Недаром говорится,
Что дело мастера боится».
«И, полно, куманек! Вот невидаль: мышей!
Мы лавливали и ершей».
«Так в добрый час, пойдем!» Пошли, засели.
Натешился, наелся Кот,
И кумушку проведать он идет;
А Щука, чуть жива, лежит, разинув рот, —
И крысы хвост у ней отъели[42].
Тут, видя, что куме совсем не в силу труд,
Кум замертво стащил ее обратно в пруд.
И дельно! Это, Щука,
Тебе наука:
Вперед умнее быть
И за мышами не ходить.
Когда у нас беда над головой,
То рады мы тому молиться,
Кто вздумает за нас вступиться;
Но только с плеч беда долой,
То избавителю от нас же часто худо:
Все взапуски его ценя́т[43],
И если он у нас не виноват,
Так это чудо!
Старик Крестьянин с Батраком
Шел пóд вечер леском
Домой, в деревню, с сенокосу,
И повстречали вдруг медведя носом к носу.
Крестьянин ахнуть не успел,
Как на него медведь насел.
Подмял Крестьянина, ворочает, ломает,
И где б его почать, лишь место выбирает:
Конец приходит старику.
«Степанушка, родной, не выдай, милой!» —
Из-под медведя он взмолился Батраку.
Вот новый Геркулес, со всей собравшись силой,
Что только было в нем,
Отнес полчерепа медведю топором
И брюхо проколол ему железной вилой.
Медведь взревел и замертво упал:
Медведь мой издыхает.
Прошла беда; Крестьянин встал,
И он же Батрака ругает.
Опешил бедный мой Степан.
«Помилуй, – говорит, – за что?» – «За что, болван!
Чему обрадовался сдуру?
Знай колет: всю испортил шкуру!»
Петух и жемчужное зерно[44]