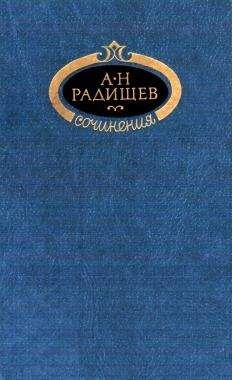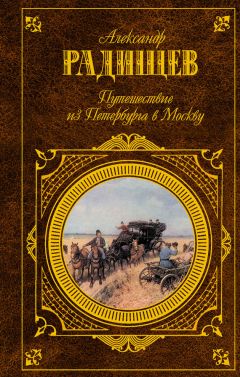«Первым махом» в русском революционном «творении» было слово Радищева — и это очень четко сформулировал сам автор «Вольности» и «Путешествия из Петербурга в Москву», сказав о себе:
Под игом власти, сей, рожденный,
Нося оковы позлащенны,
Нам вольность первый прорицал.
И потому закономерным и по-своему символичным явилось то, что первым памятником, который воздвигла Советская власть великому деятелю прошлого, был памятник Александру Николаевичу Радищеву.
В. А. Западов
Путешествие из Петербурга в Москву*
«Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй».
«Тилемахида», том II, кн. XVIII, стих 514
А.М.К.
Любезнейшему другу.
Что бы разум и сердце произвести ни захотели, тебе оно, о! сочувственник мой, посвящено да будет. Хотя мнения мои о многих вещах различествуют с твоими, но сердце твое бьет моему согласно — и ты мой друг.
Я взглянул окрест меня — душа моя страданиями человечества уязвленна стала. Обратил взоры мои во внутренность мою — и узрел, что бедствии человека происходят от человека, и часто оттого только, что он взирает непрямо на окружающие его предметы. Ужели, вещал я сам себе, природа толико скупа была к своим чадам, что от блудящего невинно сокрыла истину навеки? Ужели сия грозная мачиха произвела нас для того, чтоб чувствовали мы бедствия, а блаженство николи? Разум мой вострепетал от сея мысли, и сердце мое далеко ее от себя оттолкнуло. Я человеку нашел утешителя в нем самом. «Отыми завесу с очей природного чувствования — и блажен буду». Сей глас природы раздавался громко в сложении моем. Воспрянул я от уныния моего, в которое повергли меня чувствительность и сострадание; я ощутил в себе довольно сил, чтобы противиться заблуждению; и — веселие неизреченное! — я почувствовал, что возможно всякому соучастником быть во благо действии себе подобных. — Се мысль, побудившая меня начертать, что читать будешь. Но если, говорил я сам себе, я найду кого-либо, кто намерение мое одобрит, кто ради благой цели не опорочит неудачное изображение мысли, кто состраждет со мною над бедствиями собратий своей, кто в шествии моем меня подкрепит, — не сугубой ли плод произойдет от подъятого мною труда?.. Почто, почто мне искать далеко кого-либо? Мой друг! ты близ моего сердца живешь — и имя твое да озарит сие начало.
Отужинав с моими друзьями, я лег в кибитку. Ямщик, по обыкновению своему, поскакал во всю лошадиную мочь, и в несколько минут я был уже за городом. Расставаться трудно, хотя на малое время, с тем, кто нам нужен стал на всякую минуту бытия нашего. Расставаться трудно; но блажен тот, кто расстаться может не улыбаяся; любовь или дружба стрегут его утешение. Ты плачешь, произнося «прости»; но воспомни о возвращении твоем, и да исчезнут слезы твои при сем воображении, яко роса пред лицем солнца. Блажен возрыдавший, надеяйся на утешителя; блажен живущий иногда в будущем; блажен живущий в мечтании. Существо его усугубляется, веселия множатся, и спокойствие упреждает нахмуренность грусти, распложая образы радости в зерцалах воображения. — Я лежу в кибитке. Звон почтового колокольчика, наскучив моим ушам, призвал наконец благодетельного Морфея. Горесть разлуки моея, преследуя за мною в смертоподобное мое состояние, представила меня воображению моему уединенна. Я зрел себя в пространной долине, потерявшей от солнечного зноя всю приятность и пестроту зелености; не было тут источника на прохлаждение, не было древесныя сени на умерение зноя. Един, оставлен, среди природы пустынник! Вострепетал. — Несчастной, — возопил я, — где ты? где девалося все, что тебя прельщало? где то, что жизнь твою делало тебе приятною? Неужели веселости, тобою вкушенные, были сон и мечта? — По счастию моему случившаяся на дороге рытвина, в которую кибитка моя толкнулась, меня разбудила. — Кибитка моя остановилась. Приподнял я голову. Вижу: на пустом месте стоит дом в три жилья. — Что такое? — спрашивал я у повозчика моего. — Почтовой двор. — Да где мы? — В Софии, — и между тем выпрягал лошадей.
Повсюду молчание. Погруженный в размышлениях, не приметил я, что кибитка моя давно уже без лошадей стояла. Привезший меня извозчик извлек меня из задумчивости. — Барин-батюшка, на водку! — Сбор сей хотя не законной, но охотно всякой его платит, дабы не ехать по указу. — Двадцать копеек послужили мне в пользу. Кто езжал на почте, тот знает, что подорожная есть оберегательное письмо, без которого всякому кошельку, — генеральской, может быть, исключая, — будет накладно. Вынув ее из кармана, я шел с нею, как ходят иногда для защиты своей со крестом.
Почтового комиссара нашел я храпящего; легонько взял его за плечо. — Кого черт давит? Что за манер выезжать из города ночью. Лошадей нет; очень еще рано; взойди, пожалуй, в трактир, выпей чаю или усни. — Сказав сие, г. комиссар отворотился к стене и паки захрапел. Что делать? Потряс я комиссара опять за плечо. — Что за пропасть, я уже сказал, что нет лошадей, — и, обернув голову одеялом, г. комиссар от меня отворотился. — Если лошади все в разгоне, — размышлял я, — то несправедливо, что я мешаю комиссару спать. А если лошади в конюшне… — Я вознамерился узнать, правду ли г. комиссар говорил. Вышел на двор, сыскал конюшню и нашел в оной лошадей до двадцати; хотя, правду сказать, кости у них были видны, но меня бы дотащили до следующего стана. Из конюшни я опять возвратился к комиссару; потряс его гораздо покрепче. Казалося мне, что я к тому имел право, нашед, что комиссар солгал. Он второпях вскочил и, не продрав еще глаз, спрашивал — Кто приехал? не… — но опомнившись, увидя меня, сказал мне: — Видно, молодец, ты обык так обходиться с прежними ямщиками. Их бивали палками; но ныне не прежняя пора. — Со гневом г. комиссар лег спать в постелю. Мне его так же хотелось попотчевать, как прежних ямщиков, когда они в обмане приличались; но щедрость моя, давая на водку городскому повозчику, побудила софийских ямщиков запречь мне поскорее лошадей, и в самое то время, когда я намерялся сделать преступление на спине комиссарской, зазвенел на дворе колокольчик. Я пребыл доброй гражданин. И так двадцать медных копеек избавили миролюбивого человека от следствия, детей моих — от примера невоздержания во гневе, и я узнал, что рассудок есть раб нетерпеливости.
Лошади меня мчат; извозчик мой затянул песню, по обыкновению заунывную. Кто знает голоса русских народных песен, тот признается, что есть в них нечто, скорбь душевную означающее. Все почти голоса таковых песен суть тону мягкого. — На сем музыкальном расположении народного уха умей учреждать бразды правления. В них найдешь образование души нашего народа. Посмотри на русского человека: найдешь его задумчива. Если захочет разгнать скуку или, как то он сам называет, если захочет повеселиться, то идет в кабак. В веселии своем порывист, отважен, сварлив. Если что-либо случится не по нем, то скоро начинает спор или битву. — Бурлак, идущий в кабак повеся голову и возвращающийся обагренной кровию от оплеух, многое может решить доселе гадательное в истории российской.
Извозчик мой поет. — Третий был час пополуночи. Как прежде колокольчик, так теперь его песня произвела опять во мне сон. — О природа, объяв человека в пелены скорби при рождении его, влача его по строгим хребтам боязни, скуки и печали чрез весь его век, дала ты ему в отраду сон. — Уснул, и все скончалось. — Несносно пробуждение несчастному. О, сколь смерть для него приятна. А есть ли она конец скорби. — Отче всеблагий, неужели отвратишь взоры свои от скончевающего бедственное житие свое мужественно. Тебе, источнику всех благ, приносится сия жертва. Ты един даешь крепость, когда естество трепещет, содрогается. Се глас отчий, взывающий к себе свое чадо. Ты жизнь мне дал, тебе ее и возвращаю, на земли она стала уже бесполезна.
Поехавши из Петербурга, я воображал себе, что дорога была наилучшая. Таковою ее почитали все те, которые ездили по ней вслед государя. Такова она была действительно, но на малое время. Земля, насыпанная на дороге, сделав ее гладкою в сухое время, дождями разжиженная, произвела великую грязь среди лета и сделала ее непроходимую… Обеспокоен дурною дорогою, я, встав из кибитки, вошел в почтовую избу, в намерении отдохнуть. В избе нашел я проезжающего, которой, сидя за обыкновенным длинным крестьянским столом в переднем углу, разбирал бумаги и просил почтового комиссара, чтобы ему поскорее велел дать лошадей. На вопрос мой, кто он был? — узнал я, что то был старого покрою стряпчий, едущий в Петербург с великим множеством изодранных бумаг, которые он тогда разбирал. Я немедля вступил с ним в разговор, и вот моя с ним беседа: — Милостивый государь! Я, нижайший ваш слуга, быв регистратором при разрядном архиве, имел случай употребить место мое себе в пользу. Посильными моими трудами я собрал родословную, на ясных доводах утвержденную, многих родов российских. Я докажу княжеское или благородное их происхождение за несколько сот лет. Я восстановлю нередкого в княжеское достоинство, показав от Владимира Мономаха или от самого Рюрика его происхождение. Милостивый государь! — продолжал он, указывая на свои бумаги, — все великороссийское дворянство долженствовало бы купить мой труд, заплатя за него столько, сколько ни за какой товар не платят. Но, с дозволения вашего высокородия, благородия или высокоблагородия, не ведаю как честь ваша, они не знают, что им нужно. Известно вам, сколько блаженныя памяти благоверный царь Федор Алексеевич российское дворянство обидел, уничтожив местничество. Сие строгое законоположение поставило многие честные княжеские и царские роды наравне с новогородским дворянством. Но благоверный же государь император Петр Великий совсем привел их в затмение своею табелью о рангах. Открыл он путь чрез службу военную и гражданскую всем к приобретению дворянского титла и древнее дворянство, так сказать, затоптал в грязь. Ныне всемилостивейше царствующая наша мать утвердила прежние указы высочайшим о дворянстве положением, которое было всех степенных наших востревожило, ибо древние роды поставлены в дворянской книге ниже всех. Но слух носится, что в дополнение вскоре издан будет указ, и тем родам, которые дворянское свое происхождение докажут за 200 или 300 лет, приложится титло маркиза или другое знатное, и они пред другими родами будут иметь некоторую отличность. По сей причине, милостивейший государь! труд мой должен весьма быть приятен всему древнему благородному обществу; но всяк имеет своих злодеев.