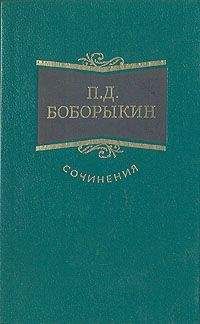Вот через какой «труп» она скорее всего перешагнет: через труп своего ребенка.
Слезы потекли у нее быстро и обильно и немного облегчили ее. Она потянулась исхудалой рукой к пуговке звонка, приходившейся над ночным столиком.
Отворила дверь сиделка в темно-сером платье и фартуке.
— Как маленький? — спросила она возбужденно, довольно еще сильным голосом.
— Ничего-с.
— Кормилица с ним?
— С ним.
— Марья Филипповна дома?
— Дома-с.
— Попросите ее ко мне на минутку.
Сиделка скрылась.
Третью неделю лежит она здесь, у этой Марьи Филипповны — ученой «мадамы», как зовет ее сиделка.
Какою смелою считала она себя год назад, и позднее, когда страсть туманила ей голову. Минутами она гнала от себя всякий страх перед последствиями, хотела даже выставить напоказ то, что другие считают постыдным. Пускай та ненавистная женщина, которая довела ее до этого, знает, что она открыто будет матерью.
Вышло совсем не так. Несколько месяцев она скрывала свое положение и прибегла к укрывательству ученой мадамы, как сотни других девушек и вдов.
Но это не все… Можно снести сознание своего малодушия и своей неудачи и продолжать любить, верить в того, кто был причиной страданий.
Любит ли она теперь, вот в эту минуту?.. И верит ли?
Она хотела бы верить до последней минуты. Да и какое она может привести несомненное, разительное доказательство того, что этот человек предал ее, бросил, поступил, как бездушный развратник?
Факты — не за него; но и не против него.
Хлопоты о разводе они должны были прекратить… Жена его — чуть не сумасшедшая, в лечебнице психиатра… Он ездил в Москву повидать детей, вернулся оттуда расстроенным; но не сухим, не злым.
Ровно за две недели до рождения ее ребенка он пришел к ней и сказал: если она не хочет, чтобы он подписывал контракт на Лондон — он ответит отказом по телеграфу… Как могла она удержать его? Он предлагал взять ее с собой. Она и на это не согласилась. Почему? Не хотела этой «милостыни», не желала быть обузой, стыдилась своего положения, боялась, что он охладеет к ней именно потому, что она обуза, что с ней надо будет просиживать все свободные дни.
Он и уехал. Прощаясь, плакал, кажется, искренно, предложил денег; она раскричалась на него, как никогда не кричала. В этом она увидала унизительную «подачку». "На, мол, тебе тысячу рублей и будь довольна, а я — умываю руки; я сделал все, что следует порядочному человеку".
И тогда, после сцены прощания, впервые заползло в ее душу сомнение: полно, любит ли она его беззаветно, тот ли он, с кем надо ей скоротать свой век?
Сначала депеши его летели чуть не каждый день, потом реже. Писать он никогда не любил. О рождении сына известила его акушерка. Он ответил радостно, но эта депеша ее не тронула. На третий день она заболела и была между жизнью и смертью.
Гордость — вот что поддерживало ее и заставляло поступать так, как у нее выходило. Она не желала считать себя его женой, даже накануне того дня, как стала матерью. А могла бы, должна бы была так чувствовать, если хотела быть верной тому, что ее распаляло в борьбе со "злой волей" его жены.
Гордость да ненавистное чувство к этой женщине сидели в ней глубже всего остального.
Не захотела принять от него поддержки, даже для их ребенка, и увидала, почти с ужасом, что у нее собственных средств не хватит и на полгода, если жить так, как она жила.
От квартиры надо было отделаться. Свою мебель поставила она в склад и поступила тайной пансионеркой к Марье Филипповне, где все очень дорого.
Круг мыслей и ощущений привел ее к тому, с чем она проснулась.
И опять страстно потянуло ее к ребенку.
Дверь скрипнула. На пороге стояла хозяйка, блондинка, под пятьдесят лет, широкоплечая, с круглым, лоснящимся лицом, в городках на лбу, в богатом распашном капоте.
— Милочка! — тихо вскрикнула она. — Что вы!.. Никак, хотели вставать? Да это безумие, голубчик мой!
Ее белые и красивые руки, в перстнях, потянулись к больной, чтобы удержать ее от всякого лишнего движения.
Марья Филипповна присела на край кровати.
— Беспокоитесь о вашем бутузике? Напрасно. Он кушает исправно. Я знаю, скажете: поставить около вас. Невозможно это, голубчик мой, абсолютно невозможно… И туда не пущу раньше послезавтраго.
Больная силилась улыбнуться, но слова хозяйки и тон ее кололи ее. Помириться с своим положением какой-то беглянки-преступницы — она не могла.
— Через два дня мы на другой режим вас посадим.
Наклонившись к ней низко, Марья Филипповна медленно выговорила:
— Являлась ко мне одна дама и хотела вас видеть.
— Меня? Каким образом?
— Как будто родственница… Худая, очень, знаете, порядочная… С большим к вам сочувствием.
— Вы спросили фамилию?
— Спросила, милочка; она затруднилась. Говорит: я напишу Лидии Кирилловне, и, когда она поправится, она меня, быть может, примет.
Видя, что больная заволновалась, Марья Филипповна встала, сделала жест рукой и, уходя, пустила громким шепотом:
— Разговаривать довольно! Лежите смирно, голубчик мой, и благо вам будет!
Перед нею, в полусвете комнаты, бледнело лицо — худое, совсем прозрачное, с остатками большой красоты; впалые, огромные глаза глядели на нее с непонятным, жутким для нее участием и еще с чем-то… Во всем существе этой женщины было что-то особенное, перед чем она смирялась.
И смотрела эта женщина совсем не старухой. Черное платье облекало тонкую талию с чем-то девическим, целомудренным. Никто бы не сказал, что она была мать девочки по тринадцатому году, что ей тридцать пять лет. Не пахло от нее ни камфарой, ни валерьяной.
Когда, четверть часа перед тем, Ашимовой подали карточку: "Анна Семеновна Струева" — все в ней всколыхнулось. Она хотела было отказать, но крикнула: «Просите», и поспешно стала оправлять свой пеньюар, в котором лежала на прибранной кровати, с пледом на ногах.
Это посещение почти возмутило ее. Что ей нужно?.. Полюбоваться на ее позор?
Но не прошло и пяти минут разговора, как она не в силах была отдаваться злобному чувству. Она только слушала.
Эта женщина узнала, где ее найти, от адвоката… Он, конечно, и послал ее, и послал не зря, а за делом… В душе этой женщины все перегорело. Она просто, без хныканья, без фраз, рассказала про внезапную смерть старшей дочери, про свое душевное расстройство и про свое излечение. И под конец рассказа она вдруг нагнулась — сидела она на стуле, — протянула руку и, сдерживая волнение, выговорила звуком глубокой скорби:
— Простите меня, Бога ради… Я вас довела вот до чего… Простите…
И поникла головой.
Что же было отвечать? Разносить ее?.. Всякая злобность смолкла… Неожиданное чувство жалости к ним обеим овладевало Ашимовой… Обе они стали жертвы одного влечения, как бы сестры по судьбе своей.
Потом, оправившись, та начала говорить просто, как о деле, которое надо наладить поскорее, тоном должницы, готовой заплатить все просроченные проценты.
Недоверие на секунду закралось в Ашимову: не ловушка ли это?
— Почему же, — спросила она, наконец, кротко, почти стыдливо, — вы так долго не соглашались?.. Я не хочу верить, чтобы из одного упорства… после того, что я сейчас выслушала от вас.
— Почему? Лидия Кирилловна… На это легко ответить, когда знаешь, что тебя поймут.
— Я пойму вас, — сказал Ашимова, подняла голову и прислонилась ею к высоко взбитым подушкам.
Почему она упиралась?.. Потому, что не могла еще совладать с любовью к человеку, созданному ею, потому что любовь к нему перешла в материнское чувство и она не отделяла его от своих детей, рожденных от него же; потому что она страшилась лишить детей отца; потому что она изучила его натуру и знала, что он может, переходя от увлечения к увлечению, — лишиться всего… Упираясь, она хотела сохранить ему семью, куда он мог бы вернуться, побитый жизнью.
Все это отзывалось чем-то слишком чистым и возвышенным, почти театральным, но Ашимова уже не могла не верить тому, что такие именно побуждения руководили ее соперницей. Незаметно исчезла для нее всякая возможность смотреть на Струеву, как на "злую разлучницу".
И впервые узнала она из ее исповеди, сколько эта женщина положила сил, вероятно, и материальных средств, на то, чтобы создать из мужа своего такого симпатичного артиста. Она почуяла, что все привлекательное в нем, на что она сама полетела как бабочка, было согрето и развито его женой.
— Умерла моя Оля, — доносился до нее тихий, немного глухой голос, она слушала с полузакрытыми глазами, — и когда я после болезни стала входить в себя, эта смерть явилась для меня откровением. Я не изуверка и не ханжа. Может быть, слишком мало думала о душе своей. Но этот удар просветил меня… Ваш адвокат, — он хороший человек, — узнал, что я выздоровела, приехал, рассказал, в каком вы положении — и вот я здесь, Лидия Кирилловна. Вам тяжелее. Я, как женщина, свое взяла с жизни. А вы, молодая девушка, честная, пылкая и в сущности ни в чем не виноватая передо мной… У вас ребенок… Он сын Анатолия Петровича… Я должна отдать и ему, и вам права… Вы их достаточно выстрадали.