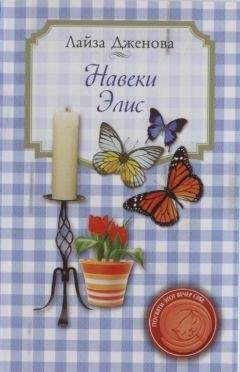подтолкнуть — пусть выложит карты на стол, произнесет три буквы вслух, — и ее беспокойное сердце снова частит. Она подносит бокал к губам, уклоняясь от его вопроса и своего ответа, и делает большой глоток вина, в желудок вместе с жидкостью проваливается и истинная причина ее появления здесь.
— Мне всегда казалось, что иногда ты отменяешь концерты ради привлечения внимания.
— Карина, за последующие три недели наберется несколько тысяч человек, которых я оставлю ни с чем, несколько тысяч, запланировавших провести целый вечер, уделяя мне все свое внимание. Отмена турне — это последнее, что можно сделать для привлечения внимания.
Их взгляды снова скрещиваются, и между ними прокатывается волна то ли интимной близости, то ли отчаянной откровенности.
— Хотя спору нет, твое внимание она привлекла, — улыбается он.
Ричард засовывает нос в бокал, втягивает воздух, одним махом допивает остатки. Оглядывает выстроившиеся на столешнице бутылки и вытягивает солдата из задней шеренги. Надевает колпачок штопора на горлышко и начинает проворачивать, но рука то и дело отказывается его слушаться, и у него ничего не выходит. Он снимает штопор с бутылки, осматривает горлышко, поглаживая его пальцем. Вытирает руку о штаны, словно она была мокрой.
— Эти покрытые парафином пробки хрен выдернешь.
Он возвращает штопор на прежнее место и пробует снова и снова, но его пальцы продолжают соскальзывать и не могут справиться с выкручивающим механизмом. Особо не задумываясь, она уже собирается предложить свою помощь, но тут он вдруг останавливается и швыряет штопор через всю комнату. Карина инстинктивно пригибается, хотя ей совершенно ничего не угрожало, она сидела с другой стороны.
— Ну вот, — обвиняет ее он. — Как раз это ты и пришла увидеть, верно?
— Я не знаю. Не знаю.
— Теперь довольна?
— Нет.
— За этим ты сюда и пришла. Полюбоваться на мое унижение.
— Нет.
— Я не могу больше играть, достойно играть, и никогда уже не смогу. Поэтому мое турне и отменилось, Карина. Ты это хотела услышать?
— Нет.
Она смотрит ему в глаза. Принимать вот так на себя его гнев — ужас чистейшей воды.
— Зачем тогда пришла?
— Думала, так будет правильно.
— Поглядите-ка на нее, она вдруг заделалась образцовой католичкой, переживает о том, что хорошо, что плохо. При всем уважении, моя дорогая, ты не отличишь одно от другого, даже если оно тебя в задницу отымеет.
Она качает головой, чувствуя омерзение от его слов, испытывая отвращение к самой себе за то, что сглупила. Поднимается.
— Я сюда пришла не затем, чтобы терпеть издевательства.
— Ну началось, опять ты с этим своим словечком. Никто над тобой не издевается. Хватит уже его всюду вставлять. Еще и Грейс мозги промыла. Поэтому она отказывается со мной разговаривать.
— Меня в этом не обвиняй. Если она с тобой не разговаривает, то, может, оттого, что ты козел.
— А может, потому, что ее мать — мстительная стерва.
Карина берет бутылку, которую он не смог открыть, за горлышко и шарахает ею о край столешницы. Выпускает из руки отбитое горлышко и отступает от растекающейся по полу лужи вина.
— В этом вишню чувствую, — говорит она дрожащим голосом.
— Вон. Сию же минуту вон!
— Жаль, что я вообще сюда пришла.
Она хлопает дверью и бежит три пролета вниз так, словно за ней гонятся. У нее ведь были самые лучшие побуждения! И как это у них все пошло наперекосяк?
Как все пошло наперекосяк?
Со всех сторон на нее наваливаются злость и тоска, ноги вдруг слабнут и кажутся ватными, сил двигаться больше нет. Карина садится на верхнюю ступень крыльца, откуда ей открывается прекрасный вид: люди, бегущие трусцой по Коммонуэлс, голуби в парке, шпили Тринити и синие стекла Хэнкока, — и, не задумываясь о том, кто ее может увидеть или услышать, разражается рыданиями.
Ричард садится за свой рояль впервые за три недели, прошедшие с 17 августа, дня, когда указательный палец правой руки, последний из пальцев на правой руке, ставших глухими к его желаниям, окончательно сдался. Ричард проверял его каждый день. 16 августа он еще мог самую малость постучать им. Цеплялся за достигнутый успех, жалко радуясь этому движению, потребовавшему титанического волевого и физического усилия и со стороны больше походившему на слабый тремор, чем на постукивание. Он возложил надежду всей своей жизни на этот палец, который восемь месяцев назад мог танцевать по клавишам в самых сложных и требующих физического напряжения пьесах без единого промаха, извлекая каждую ноту точно рассчитанным ударом.
ФОРТИССИМО!
Диминуэндо.
Его указательный палец, как и каждый палец правой руки, — точно выверенный инструмент. Если в ходе репетиции Ричард допускал одну-единственную ошибку, если хотя бы один из пальцев из-за нехватки уверенности, силы или автоматизма движений спотыкался, он тут же останавливался и начинал проигрывать произведение с самого начала. Ошибок быть не должно. Никаких оправданий для его пальцев не допускалось.
Восемь месяцев назад пальцы его правой руки были самыми виртуозными в мире. Сегодня рука до самого локтя парализована. Для Ричарда она все равно что мертвая, словно уже принадлежит трупу.
Ричард подхватывает левой рукой безжизненную правую и размещает ее на клавиатуре так, чтобы большой палец оказался на до первой октавы, а мизинец — на соль. Он ощущает прохладную гладкость клавиш, касание чувственное, соблазняющее. Им хочется ласки, они открыты и в полном его распоряжении, но он не в состоянии откликнуться на их зов, и это вдруг ощущается им как самое мучительное мгновение в его жизни.
Ричард в ужасе смотрит на свою мертвую руку, лежащую на прекрасных клавишах. И дело не просто в том, что его рука неподвижна, отчего кажется мертвой. Его пальцы не полусогнуты. Вся рука слишком прямая, слишком плоская, ей не хватает динамики, характера, возможности. Она атрофированная, вялая, немощная. Кажется бутафорской, как деталь костюма для Хеллоуина, киношный реквизит, протез из воска. Она никак не может быть частью его самого.
Воздух в комнате сгущается, становится чересчур плотным для дыхания, и кажется, будто он забыл, как сделать вдох. Его окатывает волной паники. Ричард ставит пальцы левой руки на клавиши: локоть слегка отведен, запястье приподнято, пальцы полусогнуты и наслаждаются прикосновением к клавишам. Он делает резкий вдох. Прогоняет воздух через легкие, как будто бежит со всех ног, а глаза его тем временем отчаянно шарят по клавишам и по обеим рукам в поисках решения, что делать. А что, дьявол его раздери, он может сделать?
Ричард начинает исполнять Первую симфонию Брамса, но в реальности звучит только партия левой руки, партия правой проигрывается в голове.