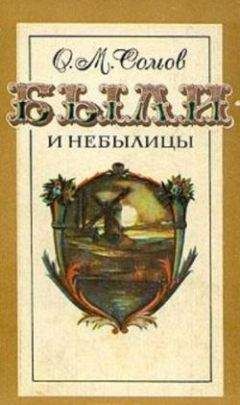Остальное в жизни моей, не весьма богатой приключениями, доскажу вам в коротких словах. Отец мой с восторгом встретил нас: сначала ему казался странным мой выбор жены; но скоро, узнав редкие душевные свойства ее и видя дочернюю нежность ее к нему, он примирился с тем, что почитал ее недостатком. Во время службы моей служила ему утешением и подпорой преклонных лет его сестра моя, которую вы видели и которая была еще почти дитятей, когда я оставил дом родительский. Аеония с первой минуты нашего приезда подружилась с Вильгельминой, и с тех пор самая тесная, нежнейшая дружба связывает сии кроткие, добрые существа. Мы ездили в Париж и там, благодаря участию и попечениям добродетельного аббата Сикара, приняли к себе в дом ту воспитанницу Института глухонемых, о которой я прежде вам сказывал. Скоро Вильгельмина моя оказала неимоверные успехи в ученьи и теперь имеет столь же ясные понятия о предметах, доступных ей по чувствам или по уму и воображению, как и все люди, слышащие и говорящие.
Мечты честолюбия давно меня оставили; я взял увольнение от службы и поселился здесь навеки. Последовавшие чрез несколько месяцев новые и, к счастию, кратковременные политические тревоги с шумом пронеслись мимо нас, не нарушив нашего спокойствия. За полтора года пред сим были мы обрадованы рождением моего сына; и теперь живем по большей части в небольшом семейном кругу нашем, счастливы, довольны, веселы, и благословляем небо за наше счастие.
Повествователь мой умолк и, с довольным видом приняв искреннее мое желание о продолжении над его семейством сего благополучия, дружески взял меня за руку, пожал ее и повел меня в комнаты. Обед наш одушевлялся откровенностью, взаимным доверием и чистосердечною веселостью. Мы долго просидели за столом, хотя не круговая чаша, а доска и грифель переходили из рук в руки. Милая Вильгельмина или давала остроумные ответы, или делала замысловатые вопросы, показывавшие наблюдательный ее ум и быстроту соображения. Когда мы встали из-за стола, коляска моя была уже готова и бич почтальона, громко хлопая по воздуху, вызывал меня в дорогу. Простясь с добрыми моими хозяевами и засев в угол моей коляски, я долго мечтал об этом любезном семействе, о тихом его счастии, особливо же о милой, прелестной Вильгельмине.
Прекрасный младенец Алкмены лежал в колыбели. Бодрый, крепкий, спокойный — он уже показывал в себе будущего героя. Все детские движения его запечатлены были силою; в самом крике его было нечто повелительное. Но вот: шипя и извиваясь, два ужасные змия ползут в колыбель его; вот уже кровавые, пересохшие пасти их зияют, чуя верную добычу. Уже они обвились кольцами вокруг тела младенцева: еще миг — и юные кости его затрещат в их убийственных извивах. Но младенец привстал, мощными руками сжал обоих змиев, разорвал их и подбросил к горнему Олимпу, как бы посмеиваясь завистливой Юноне, с наслаждением взиравшей на чаемую гибель дитяти, ей ненавистного.
Таков был Алкид в колыбели! Уже в нем виден был грядущий сокрушитель гидры Лернейской и Льва Немейского, победитель разбойника Какуса и смиритель адского пса Цербера.
Отечество мое! Россия! твою судьбу предрекала сия замысловатая басня древности. Еще в колыбели ты растерзало змиев злобы и зависти; мощными руками разорвало тяжкие, удушающие кольца оков Ордынских… Кто ныне в тебе не узнает Алкида возмужалого? И Лев смирен тобою, и много-зевный Цербер — гордый владыка, мечтавший покорить весь мир — пал под твоими ударами, и толпы какусов разноплеменных исчезли от руки твоей, и гидра крамол стоглавая издыхает под твоею пятою.
Не останавливайся на распутий, подобно Алкиду древнему, Отечество мое, Россия прекрасная! иди прямым путем, путем просвещения истинного, гражданственности нешаткой, незыблемой; презирай вой твоих буйных завистников и вознеси чело твое над странами мира как символ искупления, символ благости неба к сынам земли!
I
Здравствуй, любезный Александр! Весело ли проводишь ты свое время в Петербурге? Резвый мотылек, по-прежнему ль летаешь с дачи на дачу и от сердца к сердцу? Здоровы ли наши plantes exotiques, как ты называл этих милых провинциалочек, с их украинским произношением и огнедышащими взорами, бросаемыми исподлобья? Что до меня… но ты, верно, потребуешьот меня полной исповеди. Помню, очень помню, что перед отъездом я погрозил тебе длинным, предлинным письмом, а выполнить угрозу и доконать тебя сим тяжеловесным посланием.
Сюда прибыл я в самую лучшую пору, в половине мая, когда все здесь цвело: сады, леса, луга и щеки сельских красавиц. Смеешься ты и говоришь, что я делаюсь буколическим поэтом? Пожалуй, смейся; а я тебе докажу, что выражение мое точно как нельзя больше: лица поселянок именно цвели тогда — веснушками и вешним загаром. К пенатам моим приехал я не на радость: дом ветх и скучен, сад заглох крапивой, а в деревушке едва осталось душ тридцать налицо по последней ревизии. Мне грустно было там оставаться. Отслужив панихиду над могилами отца и матери, я тем же следом отправился верст за пятьдесят к дяде моему, принимавшему на себя родственное попечение о небольшом моем именьице во все четыре года, которые провел я за границей и в Петербурге по смерти отца моего. Дядя и все его семейство приняли меня с открытыми объятиями; а меньшие дети его — сказать правду — даже измучили меня своими поцелуями и ласками в первый вечер. Впрочем, в этот первый вечер все шло хорошо. Меня забросали вопросами о чужих краях, о новых модах, о том, с прикупкой или с вистом играют в бостон в Париже. Одна добрая старушка, родственница моей тетки, спрашивала, не заезжал ли я мимоездом в Иерусалим или на Афонскую гору? Я отвечал на все обстоятельно и благоразумно и за то удостоен был, особливо от тетки моей и доброй старушки, ее тетушки, названия человека степенного, солидного. Но на другой день лист совсем перевернулся: oiu? mon cher, j'ai fait crier au scandale! И знаешь ли чем? Тем, что поутру вместо чаю потребовал стакан молока, а вместо сдобных сладких крендельков, которыми пекарня моей тетки славится за 20 верст в окружности, — кусок черного хлеба. «Можно ли! — вскрикнули в один голос моя тетушка, ее тетушка и четырнадцатилетняя моя кузинка, — можно ли в порядочном доме требовать себе мужицкого завтрака? Разве вы думаете, прости господи, что у нас и лакомого куска не сыщется про дорогого гостя?» Напрасно я извинялся закоренелою странническою моею привычкой: меня непременно посадили бы на сладко-ядение, когда бы дядя не подоспел ко мне на помощь и не выручил меня объявлением, что я в его доме могу жить как у себя, есть и пить, что мне вздумается.
Хочешь ли знать ежедневные мои занятия? В пять часов утра я встаю и отправляюсь к реке купаться. В полверсте от дома, под навесом ив, есть прекрасное приволье для любителей купанья. Ты знаешь, что с тех пор, как сиамец Лаури учил меня плаванью, я не уступлю в этом искусстве ни одному островитянину Тихого океана. Река, протекающая в деревне моего дяди, глубока, быстра и довольно широка: ежедневно я совершаю на ней байроновский подвиг и сряду по нескольку раз переплываю этот стосаженный Геллеспонт. Жаль, что ни на одном берегу нет прекрасной Геро, которая ждала бы верного и раннего своего Леандра; или что по крайней мере, подобно Байрону, не могу я похвалиться в пленительных стихах моим удальством и простудной лихорадкой. После купанья часа два или три брожу я по рощам и полям и в ожидании Петрова дня натравливаю моего четвероногого Мельмота на крупных и мелких птичек. Молодой этот питомец так послушен и переимчив, что, когда я после иду с ним по деревне, он не оставляет без порядочной угонки ни одной курицы, ни одного цыпленка; и на днях еще старая Акулина, птичница моего дяди, всенародно приносила мне жалобу, что Мельмот, резвясь, задушил пары две утят и распугал весь утиный табор, вверенный главному ее начальству. Я смеялся и оправдывал Мельмота молодостью и глупостью; но тетке моей, кажется, это оправдание было не по сердцу: она заметила мне, что такую негодную собаку должно держать или взаперти, или на привязи. — Перескочи, если хочешь, через это отступление и читай далее. — В восемь часов являюсь я к завтраку, принимаюсь за свой черный хлеб с молоком и прехладнокровно выслушиваю неблагосклонные намеки моей тетушки и ее тетушки насчет моего вкуса или блестки сельского остроумия молоденькой кузинки, которая, будучи рада случаю, не хочет оставаться в долгу на мои шутки над ее заученною чувствительностью, или, как у нас когда-то говаривали, сентиментальностью, и над ее провинциально-жеманным полудетским кокетством. После завтрака дядя водит меня по саду или по другим хозяйственным заведениям; толкует мне то и другое: я слушаю обоими ушами, хотя, признаться, ничто из хозяйственных наставлений дядюшки в них не залегает. Кажется, бог не создал меня ни агрономом, ни садоводцем, ни прочим и прочим, в чем полагается главное и существенное достоинство сельского помещика; да, кажется, я и не готовлю себя в члены их деятельного и трудолюбивого общества. Так время уплывает до обеда. В час мы садимся за стол. После обеда и неизбежного кофе с густыми сливками три главы домочадцев уходят отдыхать, кузина мечтать за работой, дети бегать по саду, слуги дремать в передней либо шушукать с горничными; а я, взяв Мельмота и страннический мой посох — суковатую палку, снова пускаюсь бродить по окрестностям, иногда с книгой…