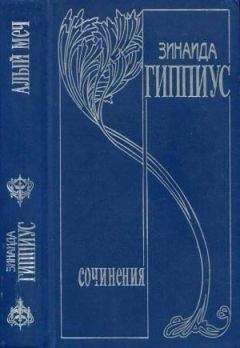Многие ее знали и привязывались к ней, но если кто после первого раза опять приходил – Саша была недовольна, потому что уже не чувствовала влюбленности. Разве вдолге придет, когда Саша его забудет.
Были и такие, которые ходили к Саше просто в гости, уже зная ее, зная, что она больше не влюблена, и принимая это без огорчения; одинокие, холодные и немножко голодные люди, студенты из бедненьких, приказчики – особенно если без места; чиновники маленькие. Саша, когда была свободна, радостно принимала их, поила чаем, а то и пивом, – бутылки две-три поставит, в случае сами не принесут. Она была нежадна, и деньги у нее всегда водились, хотя работала она редко. Примет гостей, рассказывает им о себе, угостит, – и все это чинно, нежно, весело, – совсем барышня. Вот таких привязчивых, как первый приказчик, – она терпеть не могла. Иные с ума сходили – жениться хотели, всячески упрашивали: им Саша порой отвечала и грубо. Коли не понимают – так что ж! Куда это замуж?
В дом Саша не пошла. Ее многие уговаривали, и подруги кой-какие, и хозяйки бывали. Саша соблазнялась, что там много разных, всяких мужчин каждый день, и редко придет бывалый; однако, подумав, не пошла. Деньги пока есть; переведутся на время – можно поработать. Оно не часто – не скучно. А работница она хорошая; ее по магазинам и мастерским знают. А в домах-то этих – дебоши одни…
– Нет, я уж лучше на воле, – отказывалась Саша. – Я этого не люблю. Я тихую жизнь предпочитаю. И уж если полюблю кого – так чтобы он да я, а больше мне ничего не нужно.
– А новеньких ты, Сашка, не любишь? – спрашивала подруга. – Я, вот, как была в одном дому, так мне часто мамочкины детки попадались. Реалистик там, гимназист или кто… Очень интересно. Привезут это его товарищи – и пошла, катай! Нальют его – хорохорится… А то ревет, ей-Богу! К вольным-то новеньких редко везут. Не любишь?
– Не знаю… – задумчиво отвечала Саша. – Ну что эти дебоширства…
– Эх ты… недотыка! И за что тебя, дрянь, мужчины любят? Холодная ты… темпераментом, то есть.
– Нет, я не холодная. Я не холодная. Я уж кого люблю – уж так люблю…
– Люблю! Дрянь и есть. Нам только о любви и говорить, пока нас с любовью-то в рыло не съездили. Нам не о любви, а чтоб пожрать да сорвать, а коли что – так завьем горе веревочкой, самим наплевать!
– Какое же горе? – спросила Саша с недоумелым видом и поглядела на собеседницу.
Та поглядела на нее. Так они и разошлись и не поняли друг друга.
III
Вечером, в девятом часу, к Саше пришел Александр Михайлович, не один.
Саша была дома и не собиралась выходить. Было сиверко, да и дни стояли праздничные: а в праздники пьяных много. К тому же к Саше третьего дня приезжал неожиданно красивый офицер, в которого она сразу влюбилась. Офицер намеревался было сначала провести у Саши час-два, но потом она так ему понравилась, что он остался ночевать, говорил, что хоть очень ему ее рекомендовали – однако этого он не ожидал, оставил порядочно денег и обещался опять приехать.
Саша деньгам утром была рада, – у нее они подходили к концу, – а на обещание снова приехать – промолчала; ей было весело и радостно от того, что было, и что оно вышло так хорошо и так отлично кончилось; а тому, что еще будет, – она радоваться не умела: ведь она не знала, что будет.
От воспоминаний об офицере теперь осталась в Саше лишь одна смутная золотая волна, которая уже незаметно претворялась в такое же смутное, но несомненное предчувствие новой влюбленности, неизвестной. Предчувствие еще даже не тревожное, а только нежное, – томное, тайное, скромное и стыдливое.
Старому приятелю, Александру Михайловичу, Саша была попросту рада. И ему как-то однажды твердила она, замирая: «Миленький… ох, миленький ты мой! Батюшка ты мой белый! Князь ты мой Серебряный! Потемкин ты мой… мой… Таврический!». (Саша любила почитывать романы, особенно из русской истории, где любовь чиста и военные храбры.) Однако это все было так давно, что и сам Александр Михайлович едва ли о том помнил. Заходил он к Саше нередко, Саша любила с ним поговорить и считала «умным».
Александр Михайлович вошел, потирая с мороза свои тонкие, узкие, удивительно красивые руки и щурясь. Он был в заношенной и грязной студенческой тужурке, пальто он снял тоже старое и холодное.
– Дома, Сашурка? И не собираешься? Ну ладно. Так принимай гостей. Я тебе земляка приволок. Вишь какой франт! Петербургского ничего еще не знает. А уж коли смотреть Петербург – так розу нашу махровую, Сашу-баронессу – первое! Потому – игра природы, совершенство! Кто это сказал? Лесков, что ли, черт его дери?
Александр Михайлович был под хмельком, но слегка.
Пил он вообще много, дико, – иногда пропадал из Петербурга по месяцам, возвращался, угрюмо учился – и опять понемножку начинал пить. На каком курсе университета он был – он и сам не всегда знал. Терял года из-за разных мелких историй и пьянства, выходил, опять поступал, опять выходил. Он был из хорошей семьи, издалека, но родных давно забросил. Кое-какие деньги они ему изредка присылали. Зарабатывать он почти ничего не мог.
– А мы с угощением нынче, – продолжал Александр Михайлович. – Где корзина? Давай, тащи, помогай, Нил!
– Уж это напрасно, право, – сказала Саша, с неудовольствием поглядев на корзину пива. – Ну что хорошего? Вы, вон, и так уж подшофе. И молодому человъку нет никакой особой приятности в пьянстве. Разве легонького принесли бы, да у меня ром был к чаю.
И Саша быстро, из-под ресниц, посмотрела на Нила. Александр Михайлович захохотал.
– А, ну тебя с чаем! Знаю, что, нежненькая, питий этих да «безобразнее» не любишь… Тебе не требуется… Ну, а к нашему рылу и пиво за душу милу! От ромца-то я отвык по скудости средств, а Нил, небось, и не привык! Да куда ни шло, давай и ром, коли есть, только чаю не надо.
Он опять захохотал. Ужасно к его лицу не шел смех. Лицо было худое, больное и печальное. Левый глаз изредка дергался нервным тиком. Жидкая рыжеватая бородка. И все-таки лицо было красивое и породистое.
– Какие вы, право, сегодня нехорошие! – укоризненно сказала Саша, однако полезла в шкафик за ромом, пока гости устраивались у стола, подле окна, и Александр Михайлович вынимал бутылки из корзины.
У Саши в комнате все было чистенько и аккуратно. Комод застлан вязаной салфеткой, в углу у окна покрытая машина. На стене две фотографии – самой Саши; чужих фотографий Саша не любила и не хранила. Давали – теряла. На первом портрете Саша была снята девочкой, с круглым-прекруглым личиком и ребячески искренними глазами; на втором – совершенно такая же Саша, с таким же круглым личиком и детски искренними глазами, только в большой шляпке и со взбитыми волосами. Это был теперешний портрет, но разницы с детским только и оказывалось, что шляпка да волосы. Поближе к углу, к иконам, висел третий портрет – но уже не Саши, а самого известного в России батюшки, отца И., и он тоже смотрел со стены искренними, детски невинными глазами.
Кровать в противоположном углу была скрыта розовой чистой занавесочкой. Кровать у Саши была отличная, узорная, от Санн-Галли: ей раз подарили, и она ее полюбила: хотела как-то продать, да пожалела.
– Дайте хоть скатертку постелю, – сказала Саша и, быстро отставив лампу на комод, постелила скатерть. – Все же приличнее. Вот вам и стаканы. Только, право, Александр Михайлович, вы бы не очень… И что молодой человек скажут…
И она снова, тем же быстрым взором из-под ресниц, взглянула на «молодого человека», который еще не раскрыл рта.
– Нил что скажет? А что я захочу, то и скажет. Не я его, а он меня боится. Я, Сашенька милая, его шапрон, он мне доверился – понимаете? Ибо я опытен, а он неопытен, я его веду, и уж я его не обману. Этот юноша, надо вам сказать, мой земляк; ну как он, однако, разыскал меня – уму непостижимо! Вращаемся мы, можно сказать, в различных кругах общества…
– Я справлялся, – произнес вдруг Нил неожиданно густым басом и очень покраснел.
– Видите, искал, справлялся… Там это землячество очень ценят. Искал и нашел. Трогательно. Ну как не принять участия? Принял. Вижу, юноша одинокий, славный… Славненький ведь, Саша, а?
– Они красивые… – сказала Саша и застыдилась.
– Ага, понравился! Я так и знал. Нынче на праздниках договорились мы с ним до дела… Да что, говорит, да у нас, говорит… Да и я сам, говорит… Чем я не как все, говорит… Гляжу на него – косая сажень в плечах, ядрен да свеж… яблочко наливное. На щеки-то посмотри… Я и думаю – что, в самом деле? А сам – ребеночек, ему еще тюрлю-мюрлю надо… Коли что – испугаешь, пожалуй! Тут меня и осенило – повезу к Сашке! Вот где таится погибель его! Кто это сказал, дери его черт?
– Пушкин Александр. «Песня о вещем Олеге», – проговорил юноша и снова умолк. Краснеть сильнее он не мог.
Саша отлила пива из его стакана в свой.
– Уж и я с вами выпью.