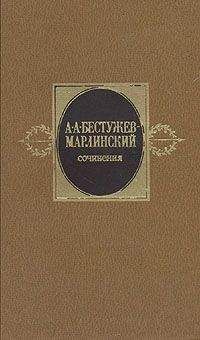Наконец накануне взятия Анапы, на единственном суходоле с юго-восточной стороны, русские открыли брешь-батарею. Действие ее было ужасно. По пятой очереди зубцы и бруствер были опрокинуты, орудия обнажены и сбиты. Ядра, ударяясь в каменную одежду, вспыхивали молниею, и потом, в черной туче пыли, взлетали куски расторгнутых камней. Стена сыпалась, распадалась, но крепость, но толщина оной долго противостояли разрушительной силе чугуна, и крутым обвалом осыпанная стена не представляла еще возможности к штурму.
Для разгоревшихся орудий и долгою стрельбою утомленных артиллеристов необходим был отдых. Мало-помалу пальба стихла на всех батареях суши и моря. Густые облака дыма катились с берега и расстилались по волнам, то скрывая, то открывая опять флотилию. Изредка срывался клуб дымный с орудий крепости, и вслед за раскатами пушечного грома, отзывающегося в далеких горах, несколько пуль свистали кой-откуда. И вот все умолкло кругом, все притаилось внутри Анапы и траншей; ни одной чалмы между зубцами, ни одного граненого штыка в завалах. Только турецкие знамена по башням и русские флаги на судах гордо играли в воздухе, не омраченном ни одною струйкою дыма; только звучный голос муэдзинов раздавался далеко, призывая мусульман к полдневной молитве.
В это время с пролома, против самой брешь-батареи, спустился, или, лучше сказать, скатился, всадник на белом коне, поддерживаемый веревками, перескочил через полузасыпанный ров и как стрела ударил влево между батарей, перепорхнул через завалы, через дремлющих за ними солдат, которые не ждали и не гадали ничего подобного, и, преследуемый торопливыми их выстрелами, скрылся в лесу. Никто из всадников не успел его рассмотреть, не только за ним гнаться; все только ахали от удивления я досады и скоро забыли про удальца в тревоге, поднятой пальбою с крепости, заведенною нарочно, чтобы дать время бесстрашному вестнику убраться в горы.
К вечеру брешь-батарея, гремевшая неумолчно, почти совершила свое дело разрушения: опрокинутая стена легла мостом для осаждающих, и они с нетерпением отваги готовились к приступу, как вдруг неожиданное нападение черкесов, снявших наши ведеты и цепь, не заставило обратить огонь редантов против неистовых, дерзких горцев. Громовое Алла, гиль, Алла! понеслось навстречу им со стен Анапы. Пушечная и ружейная пальба закипела с них вдвое сильнее, но русская картечь остановила, смешала, развеяла толпы всадников и пеших черкесов, готовых ударить на орудия в шашки, и они с грозными перекликами «гяур гяурлар» обратились назад, покидая за собой усталых. В один миг все поле было усеяно их трупами, их ранеными, которые пытались уползти, карабкались и падали снова, пораженные пулями и картечью, между тем как ядра посекали лес, а гранаты, лопаясь в нем, довершали истребление.
Но с самого начала дела до тех пор, покуда ни одного неприятеля не осталось вблизи, русские с изумлением видели перед собою статного черкеса на белом коне, который тихим шагом проезжался взад и вперед мимо наших редантов. Все узнали в нем того самого всадника, что перескочил через траншеи в полдень, вероятно для подговора черкесов напасть на русских сзади, в то время, как они хотели выпустить из ворот не удавшуюся теперь вылазку. Брызжа и урча, прыгали около него картечи. Конь его рвался на поводах, но сам он, хладнокровно поглядывая на батареи, ехал вдоль их, будто с них осыпали его цветами. Артиллеристы грызли зубы с досады, видя ненаказанную дерзость этого наездника; но выстрел за выстрелом рвали воздух и землю, но он оставался невредим, как очарованный.
— Посылай ядро! — сказал фейерверкеру молодой артиллерийский офицер, только что выпущенный из корпуса, раздосадованный всех более неудачею. — Я готов зарядить пушку своей головою: так хочется мне убить этого хвастуна. Картечью не стоит стрелять по одному: картечь — авось; ядро сыщет виноватого.
Так говоря, он подвинчивал клин и наводил сквозь диоптр орудие, и, верно рассчитав, в какое мгновение всадник наедет на черту прицела, встал с хобота и скомандовал роковое «пли»!
На несколько мгновений дым одел батарею мраком… Его разнесло… Испуганный конь мчал окровавленное тело всадника, запутавшегося ногами в стременах.
— Попал, убил! — закричали со всех траншей, и молодой артиллерист, набожно сняв фуражку, перекрестился и с веселым лицом спрыгнул с батареи, чтобы поймать заслуженную добычу. Ему скоро удалось схватить за поводья коня поверженного в прах черкеса, потому что он кружился, влача его сбоку. Несчастному оторвало руку близ плеча, но он еще дышал, еще стонал и бился. Жалость взяла доброго юношу: он кликнул солдат и заботливо велел перенести раненого в траншею, послал за лекарем и при своих глазах дождался конца операции.
Ночью, когда уже все утихло, артиллерист сидел над полумертвым своим пленником, с участием рассматривая его при тусклом свете фонаря. Змеиный след тоски, проторенный на щеках слезами, глубокие морщины лба, нарезанные не летами, но страстями, и кровавые царапины обезображивали его прекрасное лицо, и на нем выражалось что-то мучительнее боли, что-то страшнее кончины. Артиллерист, не мог удержать невольного содрогания. Пленник вздохнул тяжело и, с усилием подняв руку до лба, открыл ею свои отяжелевшие веки, произнося про себя неясные звуки, несвязные слова…
— Кровь… — сказал он, разглядывая свою руку, — все кровь! Зачем на меня надели его кровавую рубашку?.. Я и без того плаваю в крови… Зачем же не тону в ней?.. Как холодна сегодня она… Бывало, она жгла меня… да и это не легче!! На свете было так душно… в могиле так холодно!.. Страшно быть мертвецом!.. Глупец я! Искал смерти… О, дайте мне воротиться на свет!.. Дайте пожить, еще хоть денек, хоть часок пожить!.. Что такое? Что? Зачем я спрятал в могилу другого? шепчешь ты… Узнай сам, каково в ней! Узнай, каково умирать!..
Судорожное движение прервало бред его; невыразимо страшный стон вырвался из груди страдальца, и он впал в томительное забытье, в котором одна душа живет еще, чтобы страдать.
Артиллерист, тронутый до глубины сердца, приподнял голову несчастного, спрыснул ему лицо холодною водою и тер спиртом виски, чтобы привести его в чувство. Медленно открыл он очи, несколько раз потряс головою, будто желая отряхнуть с ресниц туман, и пристально устремил зрачки на лицо артиллериста, бледно озаренного мерцанием свечи. И вдруг с пронзительным криком, будто магическою силою, приподнялся он с ложа… Волосы его стали дыбом, все тело дрожало лихорадочной дрожью, руки искали что-то оттолкнуть от себя… Неописанный ужас изобразился на его лице…
— Твое имя? — вскричал он наконец, обращаясь к артиллеристу. — Кто ты, пришелец из гроба?
— Я Верховский, — отвечал молодой артиллерист.
Это был выстрел прямо в сердце пленнику; лигатура на главной артерии лопнула от прилива, и кровь хлынула сквозь перевязки!.. Еще несколько трепетаний, несколько хрипений, и ледяная рука смерти задушила в груди раненого последний вздох, сохранила на челе печать последней тоски, собирающей медленность целых лет раскаяния в один быстрый миг, в который душа, отрываясь от тела, чувствует равно муки жизни и ничтожества, чувствует вдруг все угрызения минувшего и все страхи будущего. Страшно было видеть обезображенное лицо этого мертвеца.
— Он, верно, был большой грешник! — тихо сказал Верховский стоявшему подле него генеральскому переводчику, содрогаясь невольно.
— Большой злодей! — примолвил переводчик. — Мне кажется, он был русский беглец. Мне не случалось слышать, чтобы какой-нибудь горец говорил так чисто по-русски, как этот пленник. Дайте-ка мне посмотреть его оружие, не найдем ли на нем каких примет.
Говоря так, он с любопытством обнажил кинжал, снятый с убитого, и, приблизив его к фонарю, разобрал и перевел следующую надпись:
«Будь медлен на обиду — к отмщенью скор!»
— Самое разбойничье правило! — сказал Верховский. — Бедный брат мой Евстафий! Ты пал жертвою подобного изуверства.
Глаза доброго юноши наполнились слезами…
— Нет ли чего еще? — спросил он.
— Вот, кажется, имя убитого, — отвечал переводчик. — Оно: Аммалат-бек!
ПРИМЕЧАНИЕ
Описанное выше происшествие не выдумка. Имена и характеры лиц сохранены в точности; автору повести остается только сказать несколько слов насчет изменения истины в некоторых подробностях.
Аммалат-бек, участвовавший в нескольких набегах на русские владения, был выдан головою приведенными в покорность акушлинцами самому главнокомандующему Кавказским корпусом генералу от инфантерии Ермолову в бытность его в Акуше, 1819-го года. Автор заставил его сделать впадение с чеченцами за Терек, чтобы вставить картину горского набега.
Полковник Верховский, находившийся тогда в качестве свитского офицера при главнокомандующем, упросил его помиловать Аммалат-бека и взял с собою в Тифлис, учил его, воспитал его, любил его, как брата. С ним, после многих походов, приехал Аммалат в 1822 году и в Дербент, когда, по смерти полковника Швецова, Верховского назначили командиром Куринского пехотного полка. Убил он своего благодетеля в 1823 точно так, как описано. Читатель заметит, что автор, не желая растянуть повесть на четыре года, сжал происшествия в два года. Просит у хронологов извинения.