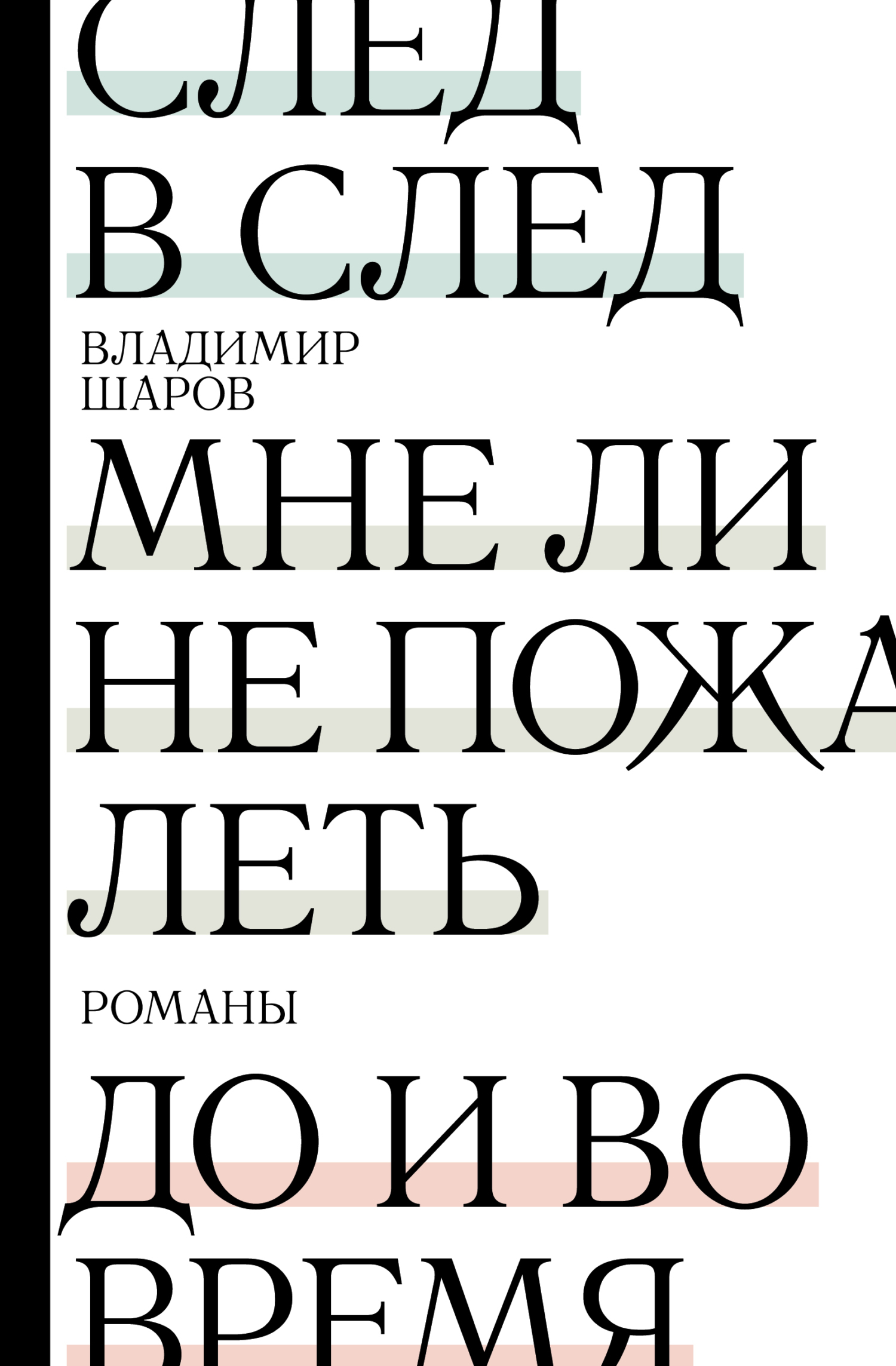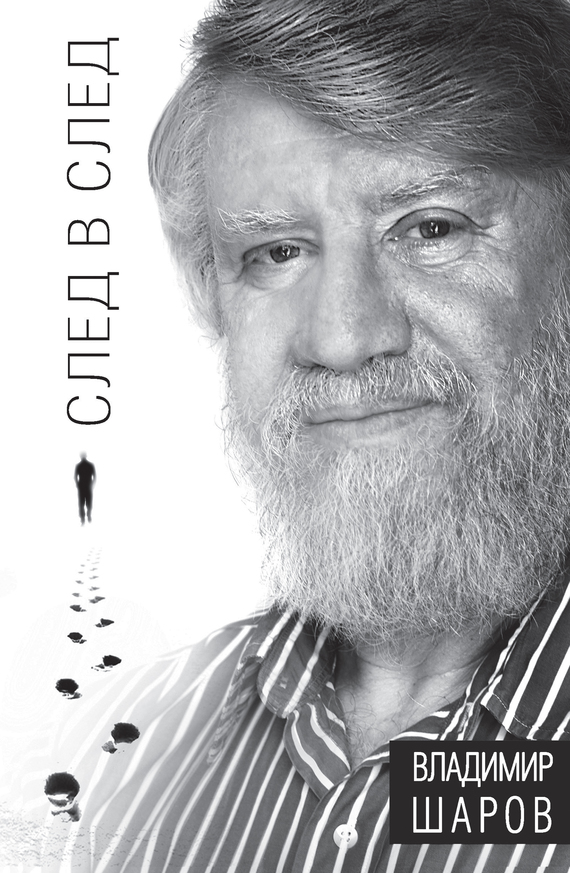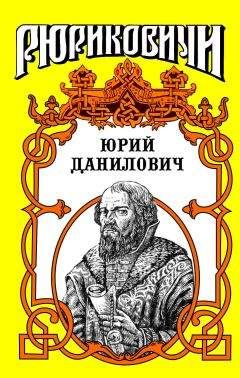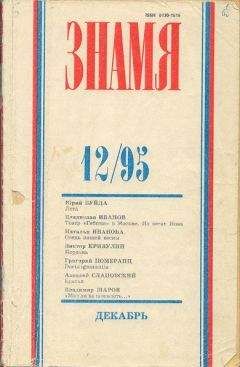Что он теперь понимает, кто Савин Лене, и Лена, конечно, тоже понимает, кто Савин ей, и он больше не намерен ей потакать, когда она пытается сделать вид, что ничего у них с Савиным не было. Естественно, он будет аккуратно ездить на кладбище – здесь вопросов нет, звонит же он потому, что ему необходимо срочно обсудить, что он должен рассказывать Савину, за этим звучало: «чтобы Савин с Пастуховым и дальше разрешали ему пользоваться Леной».
«Как вы думаете, – допытывался он раз за разом, – стоит ли говорить Савину вот об этом и об этом тоже?..»
«Разговор был не телефонный, – сказал Пастухов, – на следующий день он ко мне пришел, и мы с ним подробно обсудили детали».
Много позже я спрашивал Пастухова, проверял ли он Лениного мужа. Он сказал, что трижды, хотя особой нужды в этом не было: они ведь продолжали регулярно встречаться, и по его поведению было видно, что договоренности соблюдаются им полностью.
«Люди, когда их сломаешь, – говорил Пастухов, – врать больше не могут, только хитрят по мелочам. Вообще их постоянно, когда надо и когда не надо, тянет исповедоваться, каждому они готовы душу раскрыть; судя по всему, он и Лене сам рассказал, что ездит на могилу Савина (прежде она почему-то была уверена, что я оставил их в покое), во всяком случае, она как-то прознала, что муж стучит на нее, и не простила. Думала с ним порвать – Лена знала себе цену, пару не хуже и не беднее она нашла бы без труда, – но тогда она уже начала меня или, что то же самое, Савина бояться, понимала, что мы так просто не отвяжемся. И муж ее это знал, то есть знал, что мы Лену для него как бы сохраняем, но дело не в этом, не в том, что он был мне признателен – к тому времени Савин стал ему необходим. Он жаловался Савину на Лену, искал сочувствия, в общем, выговаривался, и ему становилось легче».
Савин явно готов был делить с ним обиды и оскорбления, на которые Лена не скупилась, и союз их с каждым днем креп. Был, правда, один период, когда муж Лены повел себя не слишком корректно. Лена тогда стала ему изменять – вообще она была вольная птица, на условности внимания не обращала, иметь независимую, закрытую от мужа и Савина жизнь для нее к тому времени сделалось манией, в ней она пыталась спастись, оторваться от них обоих. И похоже, она сознательно вела себя так, чтобы им вступаться в эту ее отдельную жизнь было до крайности неприятно. Однако, несмотря на разные ухищрения, подробности ее адюльтеров быстро становились мужу известны, раз он даже застал Лену с любовником, и вот со всем, что он успел узнать и собрать, он сразу шел к Савину и, не стесняясь скабрезностей, ему рассказывал. Он явно хотел дать понять, что изменяет она одному Савину, а он здесь ни при чем – просто частный сыщик.
«Довольно скоро торгаш слежкой увлекся. Сыск – засасывающее занятие: кому не хочется добыть, разведать то, что от тебя всеми силами пытаются скрыть. Да и занимался он этим вроде бы не для себя, а для меня и Савина, – говорил Пастухов, – что, конечно, разрешало многие нравственные проблемы».
Так он вел себя месяца два, а потом (Пастухову даже не пришлось вмешиваться) взялся за ум. В сущности, Ленин муж был неплохой человек – и скоро понял, что ведет себя неправильно; кем бы он ни был – местоблюститель, временная замена, просто пользователь Лены, – изменяла она не только Савину, но и ему. Но суть в другом: он и Савин действительно с каждым годом становились всё ближе, всё нужнее друг другу, и я думаю, что если сказать (подобное я не однажды слышал и от Пастухова), что он стал продолжением Савина, здесь не будет большого преувеличения: они и вправду сделались словно одним человеком.
Для мужа Лены такой исход, вне всяких сомнений, был спасением, но я не знал, насколько хорошо он это понимает, и теперь, когда Пастухов умер, испугался, что он поспешит всё разрушить. Я боялся, очень боялся, что, сделавшись душеприказчиком Пастухова, именно я шантажом и угрозами должен буду поддерживать сооруженную им конструкцию. Этого я совсем не хотел; я всегда бежал ответственности, не умел и не любил командовать людьми, кроме того, в то время я был уже болен – и вряд ли такое мне вообще было под силу. И еще одно меня смущало. Несмотря на все усилия, Пастухову не удалось добиться, чтобы Лена переделала завещание и согласилась быть похороненной вместе с Савиным. Следовательно, и это могло остаться на мне, а никаких идей, как ее уломать, у меня не было.
К счастью, Пастухов, очевидно, трезво оценивал мои возможности; на пухлом конверте с материалами дела Лениного мужа была приклеена адресованная мне записка с просьбой за ненадобностью конверт уничтожить, причем без крайней нужды – последнее было подчеркнуто – не читая. И вправду, смерть Пастухова отношения Лены с мужем по видимости не изменила, вообще ничего не изменилось; во всяком случае, он, как и прежде, регулярно, каждую неделю продолжал ездить на могилу Савина.
У меня нет особых сомнений, что Пастухов догадывался, насколько прочно выстроенное им здание: именно прочность и устойчивость такого странного любовного треугольника должна была натолкнуть его на мысль, что во всём этом есть нечто чрезвычайно важное и справедливое. Настолько важное, что оно могло оправдать и то, что он нарушил закон, и то, что Лена и ее муж, безусловно, были людьми глубоко несчастными. Он думал, что здесь, может быть, находится ключ к пониманию взаимных обязательств мужей и жен, к закону, который сообщит их отношениям равновесие и гармонию. Пастухову очень импонировало, что он никогда не был женат, значит, нигде и ни в чем не заинтересован, может смотреть на эти вопросы, как и доˊлжно юристу, спокойно и беспристрастно. Он был независим и свободен от любого влияния, глядел со стороны, откуда только и можно увидеть всё как есть.
Подобных обоснований его права разрабатывать закон о браке, подчас чрезвычайно тонких и, как я понимаю, юридически безупречных, я обнаружил в бумагах Пастухова много страниц – и ждал, что если не вся, то боˊльшая часть работы над законом им завершена. Однако в итоге нашел, увы, лишь несколько не слишком оригинальных тезисов. Всё же понять из них, чего хотел Пастухов, нетрудно. Он явно верил в загробную жизнь, – правда, для него она играла подчиненную роль, была несамостоятельной. Люди оттуда продолжали смотреть на