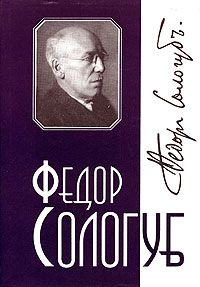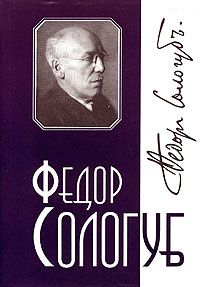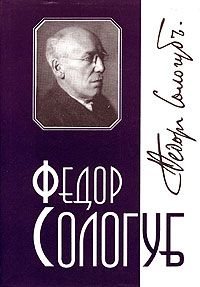Николай осатанел от злости. Вопил, неистово мечась по комнате и бешено топая ногами при каждом сильном слове:
– Да он с ума сошел, старый черт! Да это грабеж на большой дороге! Да на него надобно опеку наложить!
– Вы подумайте еще и о том, – говорил Шубников, – какие волнения поднимутся на других фабриках, когда там прослышат, какое счастье привалило гореловским рабочим.
– На чужие фабрики мне наплевать, – злобно говорил Николай, – пусть хоть все они к черту провалятся! Моих фабрик пусть он от меня отнимать не смеет! Я его осрамлю, я это на весь свет разблаговещу! Я буду просить, чтобы назначили опеку.
– Опека опекой, – отвечал Шубников, – но это история длинная и довольно скандальная.
– Плевать мне на скандал! – вопил Николай, – я на все пойду, я у него из горла мой кусок вырву!
Шубников настойчиво продолжал:
– Но вы все-таки обратите внимание пока и на это обстоятельство, относительно других фабрик. Ведь это бунтом пахнет. Будь я на вашем месте, я бы поговорил по секрету с жандармским полковником. Он, может быть, прекратит всю эту затею без малейшего шума.
– Идея! – радостно воскликнул Николай. – Сейчас же еду в город!
– Теперь поздно, можете и не застать Солодовского, лучше завтра утром, – сказал Шубников.
Но до утра ждать Николаю не терпелось.
– Все равно, зайду к Грабилину, перехвачу хоть сотни две, переночую где-нибудь в городе.
И неистовым голосом завопил в домашний телефон, чтобы ему заложили немедленно пролетку ехать в город.
100
Николай потратил полчаса на тщательный туалет и спустился в обширный и темноватый холл. Там он застал Башарова и Елизавету, одетых по-городскому. Елизавета стояла перед узким окном рядом с выходною дверью, постукивая концом розового китайского зонтика, ни на какую потребу, кроме зависти пустых девчонок, не годного. Башаров сидел в кресле у праздного камина и докуривал сигару. Он сказал:
– Я слышал от кучера, что ты едешь в город. Вот и кстати, поедем вместе.
– Но у меня пролетка, – начал было Николай.
Башаров, делая вид, что не замечает его недовольного лица, сказал:
– Я уже распорядился, чтобы дали не пролетку, а коляску. Мы с Елизаветою собрались в театр, там сегодня гастрольный спектакль, для Сонохты и то – нечто вроде чего-то.
Николаю было досадно, но ничего не оставалось делать, как согласиться. Подана была четырехместная коляска, и Николай уселся на переднем сиденье, спиною к кучеру, что ему всегда не нравилось.
Елизавета все еще дулась и почти ничего не говорила. Башаров говорил по-французски, – чтобы не понял сурово торчавший на козлах кучер:
– Объясни мне, пожалуйста, Николай, что происходит в нашем доме? Все движутся и говорят, как автоматы, внутри которых самое интересное замкнуто и ключ спрятан. Твоя мать ходит с нездешним видом. Милочка ничего не понимает, ты чем-то наполнен взрывчатым, профессор печален и великолепен, как Герцен на могиле Огарева, у твоего отца удивительно странный вид.
– Мой отец сошел с ума! – яростно закричал Николай.
– О! – протяжно сказала Елизавета.
И с видом страдалицы приложила тонкий палец в тесной лайке к правому виску, точно вскрик Николая причинил ей жестокую мигрень.
– О! – повторил за нею Башаров, – ты выражаешься слишком сильно. Скажи, ради Бога, по возможности спокойно, в чем дело.
Николай, ни минуты не думая о том, зачем он это делает, стремительно и злобно рассказал, что отец влюбился в фабричную работницу, что по этой причине он равнодушен к адюльтеру своей жены с профессором, когда же Николай, оберегая честь семьи, попытался открыть отцу глаза на эту связь, отец на него же взбесился, сделал ему страшную сцену, совсем неприлично стал обниматься и лизаться с любовником своей жены, а его, Николая, намеревался лишить наследства и с этою целью пишет завещание в пользу рабочих.
Елизавета, слушая все это с очевидным удовольствием, то и дело вставляла язвительные словечки:
– Как все это неприлично! Как все это скандально! Это может быть только в России! Как это похоже на кузину, которая дерется!
Башаров слушал молча и с большим любопытством. Он должен был сначала узнать все до конца и уже только потом подумать, почувствовать и реагировать. А вообще-то, все это ничуть не противоречило его общему настроению в этот приезд к брату, – не нравилось, сразу казалось неприличным.
Окончивши рассказ, Николай долго еще изливал свои чувства. Елизавета наконец замолчала и сидела, презрительно поджимая губы. Она думала, что сын стоит своего отца и не лучше своей сестры и что вся эта родственная ей, к сожалению, волжская семья не может выдержать никакого сравнения с почтенными семьями того же круга в Германии, Франции и Англии.
Вдруг из-за поворота дороги послышалось негромкое и не совсем стройное пение:
Вставай, поднимайся, рабочий народ.
Башаров позеленел от злости и от страха. Елизавета испуганно вскрикнула и прижалась к отцу, пытаясь в то же время скрыть под своею легкою накидкою цвета сомон надетые на ней ценные побрякушки: осыпанные брильянтами золотые часики на паутинно-тонкой золотой цепочке, брошь, браслет, – как бы не ограбили.
– Что же это, опять здесь бунт начинается? – спросил Башаров скрипучим более обычного голосом.
Николай повернулся на своем месте и злобно смотрел на дорогу. Из-за кустов выдвинулось десятка два рабочих. Увидев гореловскую коляску, они замолчали и угрюмо смотрели на проезжающих. Когда коляска проехала мимо них, послышался отрывочный говор, смех. До ушей Николая донеслось слово:
– Лоботряс!
Николай сделал вид, что не слышит, и говорил:
– Нет, это не бунт, а просто прогуливаются апаши с нашей или с какой-нибудь другой фабрики. Но я не хотел бы встретиться с ними где-нибудь в пустом месте. И эти разбойники – наследники наших фабрик! Для этих господ я должен уступить мое достояние! Нет, я на это никогда не соглашусь. Я приму свои меры.
– Что же ты хочешь сделать? – спросил Башаров.
– Поговорю прежде всего с Солодовским, – отвечал Николай.
– Это кто же?
– Здешний начальник жандармов.
Елизавета презрительно глянула на Николая и отвернулась. Николай вытаращил глаза, выпрямился и приготовился отразить все возражения. Башаров подумал, поморщился, пожевал губами, потом сказал тихо и веско:
– Пожалуй, это – самое умное, что можно сделать. Конечно, такое завещание колеблет фундамент общественного порядка.
В это время коляска обогнала двух гореловских рабочих, которые быстро шли по дороге в город. Николай язвительно засмеялся и сказал:
– Ходят наследники, точно добычу почуяли.
101
Утром Горелов позвонил к Черноклеину по телефону:
– Готово?
– К десяти будет готово, как сказано. Приедете сами или я вечером приеду с книгами?
– Приеду сам.
Радостно взволнованный, Горелов велел подать коляску. Поехал сначала на фабрику. Там посидел недолго в конторе, сделал два-три распоряжения, едва вникая в то, что говорит он и что ему говорят, оттуда прошел прямо в то отделение, где было тихо, не пылал огонь, не громыхали машины, где писарихи чинно сидели за станками и разрисовывали блюдечки и чашки идиллическими, шаблонными цветочками или на поворотном круге выводили золотые ободки и кружочки. Прошел мимо Веры. Едва глянул на нее, но отчетливо заметил, что она делает, и видел, что она его видит. Значит, сегодня ночью придет. Сердце сильно забилось, и он почувствовал, что не может пройти по другим отделениям. Да и не надо, ничего теперь не надо – какие там дела, когда такое солнце восходит и такая райская птица сладостно поет в душе, поет-заливается! Горелов опять прошел в свой небольшой кабинет при конторе. Пришли с какими-то делами, но он коротко сказал:
– Потом. К вечеру еще раз заеду. Теперь тороплюсь в город.
С минуту посидел один и уже хотел было подняться и идти к выходу, как появился Шубников. Горелов неласково глянул на него, но это не смутило Шубникова. Придавши своему лицу необычайно скабрезное выражение и изгибаясь с удивительною выворотностью, не хуже угря или балерины, он нагнулся к уху Горелова и с почтительною фамильярностью доложил:
– Иван Андреевич, сегодня ночью вас ждут в домике.
Горелов нахмурился. Подумал: «Да что это Вера выдумала через Шубникова передавать? Ведь она же меня видела!»
Потом сообразил, что Вера могла сказать это Шубникову с самого утра, когда Горелова еще не было здесь, и что, значит, она хочет прийти к нему, не дожидаясь завещания. Что же это может значить? Поверила? Полюбила? Сердце Горелова наполнилось радостью, гордостью, надеждою; страсть к Вере загорелась в нем с удесятеренною силою, отгоняя всякую скорбь и всякое зло и даже злое предвкушение смерти обращая в восторг. Он с восхищением вспомнил, как видел ее сейчас, когда она расписывала чайную чашку с широким золотым ободком, и подумал, что она вся удивительная, – и оттого, что она сегодня придет, и сама захотела прийти, мгновенным ужасом захолонуло сердце.