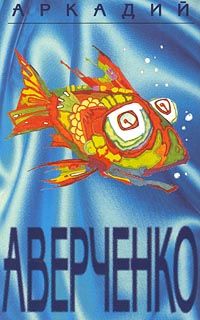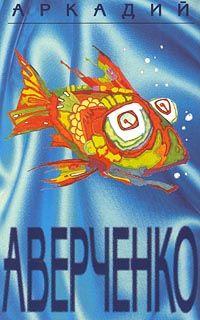Он думал, что везет меня, а я был уверен, что везу его.
Когда вошли в вестибюль, Павлуша отскочил от меня и, спрятавшись за колонну, закричал:
— Берите вот этого! Он с ума сошел.
Ко мне подошел главный доктор.
— Зачем вы его опять привезли? Ведь он выздоровел.
Я махнул рукой.
— Опять готов!
Павлуша вышел из-за колонны, расшаркался перед доктором и вежливо сказал:
— Простите, сэр, что я до сих пор не удосужился поджечь ваш прелестный дом. Но спички стоят так дорого, что лучше уж я стану к стеночке.
* * *
Взяли Павлушу. Повели.
Слава Богу: хоть одного человека я устроил как следует.
Когда соберутся вместе за самоваром или за бутылкой вина несколько русских людей, живущих по воле судьбы и большевиков — в Феодосии, Ялте или Севастополе, — я заранее с математической точностью знаю, с чего начнётся их разговор.
Чем кончится разговор, конечно, никогда нельзя предугадать, но начинается он всегда с поразительной точностью одинаково.
* * *
Вот пятеро — три дамы и двое мужчин — уселись за стол вокруг шумящего самовара; хозяйка вручила каждому по чашке чаю; пододвинула печенье, варенье, кекс, конфеты.
Минута молчания. Переглянулись.
— Ну-с, — начал разговор мужчина, тот, что помоложе. — Когда же мы будем в Петербурге?
— Да-а-а, — неопределённо тянут все три дамы, — Интересно, когда мы туда попадём?
— Теперь уж скоро, — хмуря многозначительно седые брови, говорит старичок. — Мелитополь взят. (А раньше он говорил Курск, а раньше — Харьков.)
Первая стадия разговора кончена.
Вторая:
— Я получила сведения, что моя квартира в Петербурге совершенно разграблена.
— Мне писали, что моя квартира в Москве сохранилась. Какой-то комиссар живёт.
— А я не имею никаких сведений о своей квартире.
— У меня там сестра живёт. Не знаю — жива ли?
— У меня отец и тётка. Не знаю — живы ли?
— Там голод.
— Таи страшный голод.
— Там умирают с голоду.
— Совершенно умирают. Почти все.
Вторая стадия разговора окончена.
Третья:
— Говорят, муж Анны Спиридоновны поступил в Москве на службу к большевикам.
— Вот негодяй!
— Форменный. Вешать таких людей мало.
* * *
И вдруг одна из дам неожиданным энергичным броском руля сразу повернула неуклюжий широкобокий корабль вялого разговора из узкого шаблонного канала, где корабль то и дело стукался боками о края канала, — сразу повернула и вывела этот корабль в широкое море необозримых отвлечённых предположений.
Именно она сказала:
— А что бы вы, mesdames, сделали с Троцким, если бы этот ужасный негодяй попал в ваши руки?
— Ах, ах, — сказала с бешеной ненавистью вторая дама, то, что называется — роскошная блондинка, и даже сверкнула большими серыми глазами. — Я не знаю даже, что бы я с ним сделала! Я… я даже руки бы ему не подала.
— Тоже… — кисло улыбнулась худощавая. — Придумали наказание. Нет, попадись мне в руки Троцкий, я знаю, что бы я сделала с ним.
— А что именно?
— Я? Я бы выстрелила в него!!!
— Ну, это тоже ему не страшно, — скривилась, подумавши, третья дама, та самая, которая перевела разговор в другой галс. — Нет, попадись мне в руки Троцкий, я бы уж знаю, что бы а сделала! Узнал бы он, почём фунт гребешков, узнал бы, как губить бедную Россию!..
— Ну, а что? Что бы вы ему сделали?
И сказала третья дама свистящим шепотом, как гусёнок, которому птичница наступила на лапу:
— Я бы купила булавок… много, много… ну, тысячу, что ли. И каждую минутку втыкала бы в него булавочку, булавочку, булавочку… Сидела бы и втыкала.
— Только и всего?
— Ну, а потом отрезала бы голову и выбросила свиньям!
— Только и всего?
Бедная фантазией худощавая обвела сердитым взглядом насмешливые лица и отрывисто закончила:
— А после этого воткнула бы в него ещё тысячу булавок!!
Мужчина помоложе снисходительно засмеялся:
— Эх, вы. Милые вы дамы, очаровательные, но фантазии у вас ни на копейку. Эко придумали: утыкать человека булавками, отрезать голову, выстрелить в него… Нет, господа, нет! Он столько сделал зла, что и расплата с ним должна быть королевская!..
— Например?! — в один голос воскликнули все три дамы.
— А вот… Только разрешите для настроения уменьшить свет. Слушайте меня в полутьме. Вот так… То, что я буду говорить, очень страшно. Итак: по приказу Троцкого, как вам известно, расстреливаются тысячи людей — совершенно безвинных — по обвинению в контрреволюционности. И вот! Если бы ко мне в руки попался Троцкий — я его не убивал бы. А взял бы последнего расстрелянного из этих тысяч, взял бы ещё тёплый труп этого убитого Троцким человека и крепко привязал бы его к Троцкому — грудь с грудью, лицо с лицом. И я бы кормил и поил Троцкого, чтобы он жил, но труп убитого им человека не отвязывал бы от него. И вот — постепенно убитый Троцким начинает гнить на Троцком… Троцкий каждую минуту, каждую секунду видит синее разложившееся лицо с оскаленными зубами, голова у Троцкого кружится от нестерпимого трупного запаха, и когда он почувствует около своей груди что-то живое, когда клубок трупных червей завороч…
Раздаётся дикий пронзительный крик блондинки:
— Не могу!! Довольно!.. Дайте свет… Мне страшно!!
Дали свет. Автор последнего хитроумного проекта сидел, положив голову на руки, и угрюмо молчал.
И заговорил старичок… Мягким, кротким голосом заговорил:
— Позвольте и мне сказать кой-что по этому вопросу. Видите ли… Я бы не резал и не бил бы Троцкого, не привязывал бы к нему упокойников, — я бы пальцем его не тронул, а я бы применил к нему штуку, самую справедливую…
Старичок облизнул губы и заговорил ещё мягче, ещё задушевнее:
— Я посадил бы его в комнату вместе с обыкновенным убийцей, повинившимся ну… в пяти душах, что ли. И я до сыта кормил бы их. Хорошо кормил бы. На закусочку королевскую селёдочку в уксусе, икорку паюсную, огурчики солёненькие… На обед соляночку жидкую с солёной рыбкой, гуляш венгерский с красным перчиком, с перчиком! и пудинг — сладкий-пресладкий. А чтобы они не боялись есть эти солёненькие и сладенькие вещицы — я бы около них поставил по огромному стеклянному кувшину с хорошим русским квасом, знаете, этакий московский хлебный тёмненький квасок со льдом и с жёлтой пеной наверху как, бывало, в московской «Праге» подавали. Острый, шипучий, приятный — в нос шибает… Вот кушали бы они родименькие, кушали… И когда, накушавшись, потянулся бы простой убийца за кваском, я остановил бы его руку и сказал:
— Послушай, раб Божий, убийца… а заслужил ли своими деяниями сие питие усладительное. Вот давай мы это по-Божьему рассудим. Секретарь! А ну-ка читай поимённо всех убиенных сим рабом Божиим!
И стал бы читать секретарь:
Убиты сим убийцей: Марья, Николай…
И после каждого имени выплёскивал бы я в парашу по глотку этого кваску холодненького. И сказал бы дальше секретарь мой:
— Пётр, Семён, Поликарп… Всё! И выплеснул бы я пять глотков по числу убиенных сим человеком, и остальной квас — три четверти кувшина — вручил бы убийце:
— На, сын мой! Вот твой остаток. Увлажняй своё пересохшее горло хоть до вечера.
И потянулся бы Троцкий к своему кувшину.
— Нет, постой, сын мой, — сказал бы я. — То, что в остатке будет, то и выпьешь ты, тем и увлажнишься. Читай, секретарь, имена, убиенных сим — а я по глоточку отливать буду. Читай, не торопясь, каждое имечко — через минуточку, хе-хе…
И читал бы он и читал, — о, велик список убиенных, сим Троцким! — а я бы медленно, по глоточку, выплёскивал этот душистый холодненький квасок в парашу, в парашу, в парашу.
А Троцкий сидел бы и смотрел, да лизал бы языком свои проклятые пересохшие губы, те губы, которые в своё время шевелились, называя, имена приговорённых к мукам и умерщвлению.
Кончился бы квасок — я бы ещё чего принёс: пивца холодненького, альбо сельтерской воды этакий сифонище притащил. Назовёт секретарь имечко, а я сифончик давану, оттуда струйка — порск! Назовёт, а я — порск! А другой убийца сидит рядом, душистый квасок попивает, а у Троцкого и горло, и пищевод, как кора сухая, покоробившаяся, а желудок, как высохший пузырь, стянулся — да нет ему водички, ибо текут, текут имена — десятки, сотни, тысячи имён убиенных — и так до скончания века его…
— Это страшно, — прошептала блондинка, проведя языком по запекшимся губам, и поспешно проглотила чашку полуостывшего чаю.
* * *
А на диване, в глубине столовой, сидел никем не замеченный доселе офицер, только что вернувшийся с фронта, сидел, закинув голову на спинку дивана, и молчал.
Когда же старичок окончил свой тихий елейный задушевный рассказ — встал с места офицер и вошёл в светлый круг, образуемый настольной лампой.