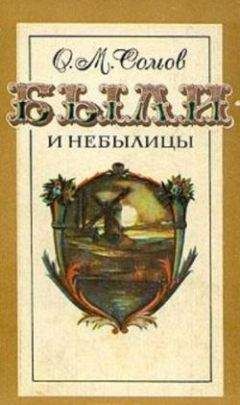— Так вы не на шутку влюблены в вашу пригожую соседку?
— Да так, батюшка, что, истинно говорю, хоть от хлеба отступиться. Ни день, ни ночь покоя не вижу: все она в глазах мерещится.
— А любит ли она вас?
— Ну, бог весть! Лишь бы согласилась идти со мною под честной венец; а там — поживется, слюбится!
— Послушайте, любезный Авдей Гаврилович! — сказал я, переменив шутливый тон на важный. — Я вам скажу чистосердечно, что ни Надежда Сергеевна вам не невеста, ни вы ей не жених.
— А почему ж бы так?
— Потому, что она девица образованная, напитавшаяся из книг такими понятиями, которые вовсе вам незнакомы; она желает найти в будущем своем муже равного себе по воспитанию и понятиям человека, который ввел бы ее в свет и с которым ей не стыдно б было показаться в свете. Положим, что ее выдали бы за вас; но она не стала бы вас любить, смотрела бы на вас косо, даже с пренебрежением; ни одной добровольной ласки вы не могли бы получить от нее… А что за ласки, которые должно брать с бою?
— Ох! Правда…
— Слушайте далее. Вы сами согласитесь, что она вас умнее. Представьте же себе, какова была бы жизнь ее и ваша, когда ни по уму, ни по привычкам, ни по воспитанию вы не могли бы сказать двух слов в лад с своей женою? Вы приходите домой с охоты: жена ваша сидит в углу и хмурится; вечером она молчит, вы также, потому что вам не о чем говорить с нею; оба вы зеваете и не знаете, куда деваться от скуки. Ваше общество ей не по нраву; ее общество, если б она могла выбрать его по своим мыслям, тоже было бы для вас тягостно: там говорили бы о таких предметах, которые вам непонятны. Словом, вы, муж и жена, были бы совершенно как чужие друг другу.
— Правда, правда, батюшка! — сказал Авдей Гаврилович с тяжелым вздохом.
— Скажу вам еще более: мне известно, что ни родители, ни родственники Надежды Сергеевны ни за что не выдали б ее за вас; об ней самой и говорить нечего: она ищет мужа по себе. Во всем этом могу вас уверить моею совестью; мне не раз случалось это слышать от них самих.
— Экая притча! Вот об этом-то я сперва и не подумал…
— Я все высказал, чтобы предостеречь вас от позднего раскаяния, — продолжал я, смотря ему прямо в глаза. — Теперь, не хотите ли? мы пойдем вместе в самую чащу этого леса — ну, словом, туда, куда почти никто не заглядывает: я стану у дерева, а вы приставьте мое ружье к моей груди или к сердцу и выстрелите… Никто не услышит выстрела, никто не увидит убийства, и если со временем отыщут мое тело, то подумают, что я сам застрелился по неосторожности.
— Что вы это, батюшка! — вскрикнул он, задрожав всем телом и уронив свое ружье; лицо его стало бледнее полотна. — Чтоб я принял такой грех на душу! И над кем? Над моим благодетелем, который вызволил меня от напрасной смерти! И из-за чего? Из сущих пустяков, из небывальщины, из-за такой невесты, которой бы мне не видать, как ушей своих! Сами же вы, отец мой, спасибо, меня надоумили.
— Да ведь вы хотели же меня застрелить?
— Ну, винюсь, батюшка: попутал было лукавый; да, видно, бог моим грехам терпит и не попустил на злое дело. Я того только и ждал.
— Точно так, любезный Авдей Гаврилович, — сказал я моему кающемуся убийце, — грех был бы тяжкий, а пользы для вас от него не было б; не лучше ли жить нам в миру, нежели ссориться, как вы говорите, из небывальщины? Знаете ли что? Добрый мир не бывает без взаимных услуг и подарков; вы жалели недавно о своем лазариновом ружье: вот вам мое кухенрейтерское: в Петербурге знатоки ценили его очень дорого; но мне оно теперь не нужно, а продать его я не намерен; лучше подарить доброму приятелю…
— Как же это, батюшка? Да ведь ваш Семен сказывал мне, что за это ружье вам давали шестьсот рублей и вы не взяли. Воля ваша, за что мне принять такой дорогой подарок.
— Возьмите, если хотите меня одолжить. Я уж вам сказал, что не продаю его, а оно мне не нужно. В ваших руках оно лучше будет выполнять свое дело, чем у меня, вися на крючке.
Лицо моего Авдея прояснилось и осклабилось, по возможности, самою приятною улыбкой. Он принял от меня ружье и благодарил меня, как будто бог знает за какое благодеяние.
— Чем могу вам отслужить, мой милостивец, за все ваше ко мне доброжелательство?
— А вот чем: в тот день, который я назначу, соберите у себя человека три-четыре ваших приятелей, из дворян здешнего околотка, и ждите от меня вести… Я скажу, что вам делать.
— Готов за вас на жизнь и на смерть, милостивец. И как не служить вам верой и правдою? У меня бродили против вас так же шальные мысли; а вы не только не гневаетесь, да еще хотите мне добра и дарите меня таким дорогим ружьем, какого мне и во сне не снилось!
Мы расстались. Я пошел к Бедринцовым, а он, обременясь двойною ношей, пустился бродить по лугам и болотам.
Я позабыл тебе сказать, что, кроме родителей моей невесты, все в доме меня полюбили: старый учитель музыки, виртембергец, и гувернантка Надежды, швейцарка из Лозанны, сорокалетняя щеголиха и говорунья, — от меня без памяти. С первым говорю я о берегах Некара, о Штутгарте и его Anlage, о Гейслингенской долине: с другою — о прелестях Швейцарии, о Женевском озере, о Лозанне и ее окрестностях. Местные сведения и знакомства помогают мне в этом случае так, что я каждого из моих чужеземных собеседников переношу воображением на его родину.
Приязнь ко мне madame Fredon (имя швейцарки) и ее откровенность — а может быть, и просто болтливость — до того простираются, что она, без всяких с моей стороны расспросов, часто пересказывает мне все, что делалось и говорилось в моем отсутствии. Таким образом она мне открыла, между разговорами, когда Надежды не было с нами, что отец и мать моей невесты во время какого-то молебна в их доме уже говорили с священником о близкой свадьбе их дочери и наименовали меня будущим своим зятем. Это подало мне мысль сыграть шутку с ними и с хлопотливою моею тетушкой. Я молчал, как будто ничего не зная; отстранял всякие намеки о формальном сватовстве, ходил и ездил в дом Бедринцовых запросто, но все еще не в качестве записного жениха. Такие поступки мои приводили в крайнее недоумение стариков Бедринцовых и всю родню их и мою. Что касается до Надежды, она, кажется, всего ожидала от времени и от власти, которую видимо приобретала в моем сердце и которая не могла утаиться от взоров сметливой девушки.
Настал день ее именин (17 сентября). Нас позвали к Бедринцовым на семейный обед. Здесь мы застали почти всю их родню, но никого из посторонних. Казалось, все к чему-то готовились. После обеда я завел какой-то незначительный разговор с Надеждой; нас, как нарочно, все оставили вдвоем. Когда заблаговестили к вечерне, я сказал Надежде:
— Сегодня ваши именины, и на вас никто не может сердиться, чтобы круглый год вам не видеть никакого огорчения. Согласитесь на одну шутку, которою, верно, родные ваши не будут недовольны. Делайте только безоговорочно то, чему я буду подавать пример.
Она усмехнулась и в знак согласия подала мне руку. Мы пошли вместе в ту комнату, где сидели ее и мои родные. Я подвел Надежду к ее бабушке и с шутливой важностию просил ее благословить нас на брак. Надежда смешалась; старушка удивилась, однако же благословила нас. То же самое и таким же тоном повторил я, подводя по порядку невесту мою к ее родителям и к моим дяде и тетке, которых просил заступить для меня место отца и матери. Отказа ни от кого не было, но все удивлялись, поглядывали на нас отчасти недоверчиво, а Надежда изменялась в лице и дрожала. После сего обряда я сказал Надежде:
— Теперь мы можем идти — прогуляться, — накинул на нее шаль, подал ей руку и повел ее в сад.
Никто за нами не следовал, ибо такие наши одинокие прогулки были не в диковинку. Я отпер наружную садовую калитку и повел мою спутницу по селению мимо церкви.
— Зайдем в церковь и отслушаем вечерню, — сказал я Надежде.
Она безмолвно согласилась, но рука ее дрожала в моей. В церкви нашел я четырех приятелей моего болотного мужичка, с утра мною предуведомленного; но сам он не явился. Я оставил трепетную девушку, начинавшую нечто подозревать, середи церкви, а сам отправился в алтарь. Там всею силою логики, риторики и других вспомогательных средств убедил я священника, знавшего, впрочем, что намерение мое не было противно родителям Надежды. Погодя немного дьячок вызвал поодиночке четырех дворянчиков — и все было готово. Вечерня между тем кончилась. Я подошел к Надежде и объявил ей, что нам теперь же должно обвенчаться, чтоб избавить родителей ее от лишних хлопот, а меня от докучных обязанностей. Сначала она было вспыхнула; но прочитав в глазах моих твердое намерение, чувствуя странность своего положения, боясь неприятной огласки и, может быть, разрыва со мною, — согласилась исполнить мое желание. Мы стали перед налоем. Двое из помянутых мною дворянчиков держали над нами венцы. Невеста моя дрожала, как листок розы, и плакала. Обряд кончился. Я поцеловал мою супругу, поблагодарил священника и свидетелей и повел Надежду в дом ее отца. Нас ждали там с какою-то подозрительною нетерпеливостью. Вошед в комнаты, мы бросились в ноги ее отцу, матери и бабушке. Все собрание откликнулось единогласным: «Ах, боже мой!» Но тут я начал ораторствовать, увлек моим красноречием всю родню и торжественно, как Цицерон, сошел с низменной моей трибуны. Нас снова благословили, мы снова поцеловались — и родственный пир зашумел!