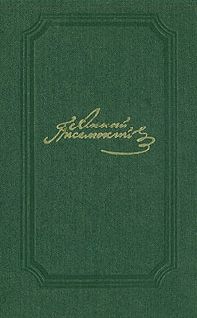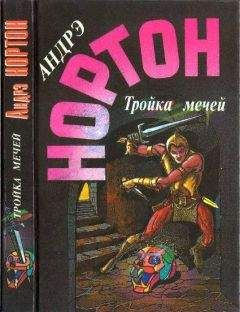- Понимаю и это! - подхватил опять-таки глубокомысленно Аггей Никитич.
- Я прошу вас, - продолжал Пилецкий, - об одном лишь: мне предстоит проезжать невдалеке усадьбы одного моего друга, Егора Егорыча Марфина, то не дозволите ли вы свернуть почтовым лошадям с большой дороги и завезти меня к нему на именины? Расстояние всего десять верст, за каковые я готов заплатить хотя бы двойные прогоны.
Аггей Никитич при этом вопросе прежде всего воскликнул:
- Вы друг Егора Егорыча и хотите заехать к нему на именины?!.
- Непременно, во что бы то ни стало! - отвечал утвердительно Мартын Степаныч.
- Почтеннейший господин Урбанович, - заговорил Аггей Никитич, - вы мне сказали такое радостное известие, что я не знаю, как вас и благодарить!.. Я тоже, если не смею себя считать другом Егора Егорыча, то прямо говорю, что он мой благодетель!.. И я, по случаю вашей просьбы, вот что-с могу сделать... Только позвольте мне посоветоваться прежде с женой!..
Проговорив это, Аггей Никитич встал и немедля ушел в свою квартиру, находившуюся в одном доме с почтовою конторою.
- Мира! - сказал он, войдя в комнату супруги своей и застав ту что-то вычисляющею на бумажке, на которой значилось: станция Вязниковская - шесть пар, станция Антипьевская - восемь пар...
Аггей Никитич, конечно, ничего этого не подметил и продолжал:
- У меня тут в конторе сидит один сосланный, Пилецкий; он едет, вообрази, Мира, к Егору Егорычу на именины! И я с ним поеду! Ведь надобно мне когда-нибудь видеться с Егором Егорычем.
- Но зачем же тебе, губернскому почтмейстеру, ехать с каким-то сосланным?! - первое, на что ударила Миропа Дмитриевна.
- Это уж мое дело!.. Он ближайший друг Егора Егорыча!.. Но я спрашиваю о том, как я должен ехать?.. Не отпуска же мне испрашивать?.. И черт его знает, когда он еще придет ко мне!..
Миропа Дмитриевна при этом не то что задумалась, а только подумала и сообразила; все служебные отношения мужа она знала и понимала в тысячу раз подробнее и точнее, чем он сам.
- Зачем тебе просить отпуска? - возразила она. - Ты явись к губернатору и доложи ему, что поедешь ревизовать уездные почтовые конторы, а там и поезжай, куда хочешь!
- Спасибо за совет! - проговорил Аггей Никитич и пошел обратно в контору.
- Но только ты непременно должен обревизовать конторы! - крикнула ему вслед Миропа Дмитриевна.
- Обревизую, что тут говорить! - отозвался Аггей Никитич.
Собственно какой-нибудь существенной пользы для службы Миропа Дмитриевна совершенно не ожидала от ревизии Аггея Никитича, но она все-таки, по некоторым своим соображениям, желала, чтобы Аггей Никитич, по крайней мере, попугал своей наружностью уездных почтмейстеров, которые, очень порядочно получая на своих должностях, губернского почтмейстера почти и знать не знали.
Возвратясь в место своего служения, Аггей Никитич сказал:
- Мартын Степаныч, вы едете к Егору Егорычу, и я тоже еду с вами... Позволите мне это?
При таком вопросе Аггея Никитича Мартын Степаныч призадумался несколько: ему помстилось, что не шпион ли это какой-нибудь, потому что так к нему навязывается; но, взглянув на открытую и простодушную физиономию Аггея Никитича, он отвергнул это предположение и отвечал:
- С великим удовольствием готов разделить с вами этот вояж.
- В какой же день и в какой час дня вы прикажете, чтобы я заехал за вами? - спросил его, почти как бы своего начальника, Аггей Никитич.
- Да я просил бы вас завтра часов в семь вечера выехать, чтобы нам не опоздать на именины; живу я у директора гимназии Ивана Петровича Артасьева, - проговорил Мартын Степаныч.
- Явлюсь! - подхватил Аггей Никитич и на другой день действительно к семи часам вечера явился.
Мартын Степаныч, с своей стороны, тоже был совсем готов к отъезду, каковой несколько замедлился тем, что Иван Петрович, прощаясь с другом своим и вообразив, что это, может быть, навсегда, расчувствовался и расплакался, как женщина, а потом, неизвестно почему, очень долго целовался с Аггеем Никитичем, с которым и знаком был весьма мало. Впрочем, целоваться со всеми было страстью этого добряка: он целовался при всяком удобном случае с подчиненными ему гимназистами, целовался со всеми своими знакомыми и даже с лицами, видавшимися с ним по делам службы.
Распрощавшись наконец, путники мои едва только выехали за город, как сейчас же вступили между собою в довольно отвлеченный разговор, который был начат Аггеем Никитичем издалека.
- Я вот теперь еду к Егору Егорычу и, признаюсь, побаиваюсь, проговорил он.
- Чего? - спросил Пилецкий.
- Да того именно, что Егор Егорыч мне еще в Москву прислал несколько масонских книг, а также и трактат о самовоспитании, рукописный и, надо быть, его собственного сочинения. Я прочел этот трактат раз десять... Кое-что понял в нем, а другое пришлось совершенно не по зубам.
- Пришлось не по зубам? - повторил Мартын Степаныч. - А что именно?
- Да вот тут слово мистицизм на каждой почти строке повторяется, а что оно значит - черт его знает, я никогда такого слова и не слыхивал. Не можете ли вы растолковать мне его?..
- С великим удовольствием! - произнес, слегка улыбнувшись, Мартын Степаныч. - Мистицизм есть известного рода философско-религиозное учение, в котором поэтому два элемента: своя философия и свое вероучение.
- А какая разница между этими двумя элементами? - бухнул Аггей Никитич.
При таком странном вопросе своего собеседника Мартын Степаныч потупился, но продолжал:
- Такая же, как между всякой философией и религией: первая учит познавать сущность вещей посредством разума, а религия преподает то, что сказано в божественном откровении; но путь в достижении того и другого познания в мистицизме иной, чем в других философских системах и в других вероучениях, или, лучше сказать, оба эти пути сближены у мистиков: они в своей философии ум с его постепенным ходом, с его логическими выводами ставят на вторую ступень и дают предпочтение чувству и фантазии, говоря, что этими духовными орудиями скорее и вернее человек может достигнуть познания сущности мирового бытия и что путем ума человек идет черепашьим шагом, а чувством и созерцанием он возлетает, как орел.
Аггей Никитич, инстинктивно понявши, что он в первом своем вопросе что-то такое проврался, уже молчал и только с глубоким вниманием слушал Мартына Степаныча, который ему далее толковал:
- При созерцании необходимо полное отрешение от всего чувственного мира, дабы созерцающий совершенно вышел из пределов ограниченного бытия своего и достигнул так называемого экстаза.
Тут Аггей Никитич снова не совладел с собой и спросил:
- А что такое значит экстаз?
- Экстаз, - объяснил ему Пилецкий, - есть то возбужденное состояние, когда человек, под влиянием духовно-нравственного движения, ничего не сознает, что происходит вокруг него; так, он не слышит боя часов, не ощущает ни света, ни темноты, ни даже тепла и холода: он как бы умертвил тело свое и весь одухотворился, - понимаете?
- Понимаю! - отвечал Аггей Никитич, и он в самом деле понял: с ним самим даже случалось нечто в этом роде, когда, например, бывал в сражениях или увлекался какой-нибудь хорошенькой...
- В этом состоянии, - продолжал поучать Мартын Степаныч, - мистики думают созерцать идею мира прямо, непосредственно, как мы видим глазами предметы мира внешнего.
- Мартын Степаныч, вы извините меня, что я вас все перебиваю! воскликнул на этом месте Аггей Никитич. - Но я не знаю, что значит слово идея.
Мартын Степаныч провел у себя за ухом и, видимо, постарался перевести известное определение идеи, что она есть абсолютное тожество мысли с предметностью, на более понятный для Аггея Никитича язык.
- Идеей называется, когда человек угадает главную причину какого бы то ни было бытия. Представьте вы себе, что дикари смотрят на часы; они видят, что стрелки движутся, но что их движет - им непонятно. Влекомые чувством любознательности, они разломали часы, чтобы посмотреть, что внутри их заключается, и видят там колеса, маятник и пружину, и вдруг кому-либо из них пришла на ум догадка, что стрелки двигает пружина, значит, в его уме явилась идея часового устройства... Я беру для выяснения моей мысли весьма узкий и ограниченный предмет, но при этом главным образом обращаю ваше внимание на то, что дикарь догадался; он понял суть посредством вдохновения. Словом, мистики признают, что все великие идеи - чудо, озаряющее головы людей, по преимуществу наклонных к созерцательному мышлению.
Тут опять-таки Аггей Никитич спутался в своем вопросе.
- Значит, и бога можно понять, как часовую пружину? - проговорил он почти с каким-то азартом.
- Бога вы, пожалуйста, еще оставьте в покое! Я говорил вам о способах мышления нашего разума... До бога нельзя дойти этим путем; его нужно любить; он токмо путем любви открывается и даже, скажу более того, нисходит в нас!