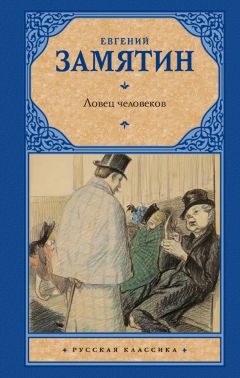Хлеб такой в Африке этой, что ни камни не надо ворочать, ни палы пускать, ни бить колочь земляную копорюгою: растет себе хлеб на древах, сам по себе, без призору, рви, коли надо. Слоны? А как же: садись на него – повезет, куда хочешь. Сам бежит, а сам в серебряную трубу играет, да так играет, что заслушаешься, и завезет он тебя в страны неведомые. А в тех странах цветы цветут – вот такие вот, в сажень. Раз нюхнуть – и не оторвешься: потуда нюхать будешь, покуда не помрешь, вот дух какой…
– Во! Погоди… – обрадовался Федор Волков, – вот и мне был сон… – и осекся: про сон про свой, про девушку ту – не мог даже Индрику рассказать.
Должно быть, недалеко была уж девушка та: все Федору Волкову снилась. Да во сне, известно, ничего не выходит: только руками она обовьет, как тогда, и не отрываться бы потуда, покуда не умрешь – а тут и окажется, что вовсе не девушка та – а дед Демьян. Тот самый дед Демьян, какой в суконной карпетке бутылку рома зятю в подарок вез. Да в пути раздавил и три дня прососал карпетку ромовую. Вот будто к карпетке к этой и приник Федор Волков и сосал: дрянь – а выплюнуть никак не может, беда!
Слава Богу, явь теперь лучше сна. Тишь, туман. Чуть шуршит вода у бортов. Колотится сердце в шкуне. Неведомо где – сквозь туман – солнце малиновое. Неведомо куда плывут сквозь туман. И сказывает Индрик сказку – не сказку, быль – не быль, про Африку – теперь уже близкую.
Однажды утречком дунул полуденник-ветер, распахнулся туман, на сто верст кругом видать. И углядели тут первого кита, вовсе рядышком. Был он смирный какой-то и все со шкуной играл: повернется на спинку, белое брюхо покажет – нырь под шкуну, и уж слева близехонько бросает фонтан.
Как пушку навел, как запал спустил – и сам Федор Волков не помнил: от страху, от радости – под сердце подкатилось, в глазах потемнело. И только тогда очнулся, когда на белом брюхе китовом копошились матросы, полосами кромсали сало.
– Ну, Федор, тебе бы еще одного так-то, а там и в Африку с Богом, – говорил весело Индрик, а глаза грустные были, будто видали однажды, чего живым видеть нелеть: правду.
– Эх! – только поматывал Федор стриженной по-ребячьи колгушкой, только теплились свечкой Богу необидные его глазки: и верно, какие же тут найдешь слова?
И в межени белой опять плыли, неведомо где, плыли неделю, а может – и две, может – месяц, как угадать, когда времени нет, и непонятно: сон – или явь? Приметили одно: стало солнце приуставать, замигали короткие ночи.
А ночью – еще лучше Федору Волкову: и все стоял, и все стоял, свесив голову за борт, и все глядел в глубь зеленую. По ночам возле шкуны неслись стаи медуз: ударится которая в борт – и засветит, и побежит дальше цветком зелено-серебряным. Только бы нагнуться – не тот ли самый? – а она уж потухла, нету: приснилась…
Капитан Индрик – на мостике целый день. Из мха седого – глядят зорко глаза на сто верст кругом.
– Гляди-и, Федор Волков, гляди-и…
«Ох, попаду. Ох, промахнусь…» – стоял на носу Федор у пушки у своей, под сердце подкатывалось, темнело в глазах.
Два дня за китом всугонь бежали. Привык бы зверь, подпустил бы ближе. Два дня стоял на носу Федор Волков, у пушки.
На третий, чуть ободняло, крикнул с мостика Индрик зычно:
– Ну-у, Федор, последний! Ну-ну, р-раз, два…
«Ох, попаду, ох…» Так сердце зашлось, такой чомор нашел, такая темень.
Выстрела и не слыхал, а только сквозь темень увидел: натянулся канат гарпунный, пошел, задымился – и все жвытче пошел, пошел, пошел…
Попал. Африка. Приникнуть теперь – и не оторваться, покуда…
Кит вертанул быстро вбок. Чуть насевший в хвосте гарпун выскочил, канат ослабел, повис.
– Эка, эка! Леший сонный, ворон ему ловить. Промазал, туды-т-т-его… – бежали сломя голову на нос, где возле пушки лежал Федор Волков.
Спокойный, глаза – как ягода-голубень грустная, подошел Индрик.
– Ну чего, чего? Не видите, что ли? Берись, да разом. Руку-то подыми у него, рука-то по земле волочится…
Есть Африка. Федор Волков доехал.
1916
О святом грехе Зеницыдевы
Жены и девы да не презирают естества своего, мучения, ибо дверь отверста для всех, она же и дверь во спасение. Так и Зеница-дева, мучительному греху свое тело предавши, тем душу спасла есть.
Зеница-дева была млада и прекрасна, – всякого прекословия кроме – волосы же имела, как венец златый отрожденный, из злата червлена. Отец ея был муж нарочитейший словом и делом, у него много коней, и рабынь много, и бисера много бесценного.
Ночью жаркой Зеница-дева, возжаждав, послала рабыню отца своего взять воды в студенце. Был тот студенец сладкой водой обилен, еще же обильней множеством змий, и ехидн, и скарпий. И, приняв водный сосуд, Зеница-дева с водой испила змею малу. Воспитана же в чреве ея, стала змея тучна и вздымала чрево девицы, будто была та плодна. Приводили кудесников многих земли родимичской и весей округних, даже до самых дулебов, но никто из них волшбами своими змею из девы не мог изгнать.
Был в те дни в земле готской муж некий, чудеса творивший многа и славна, имя же ему Улфил. Когда он пришел целить деву, кудесники стали прельщать его кознями пестрых словес:
– И ты не имеешь власти изгнать змею.
Он же им рек:
– Власть я имею, но власть моя не от готских богов, не от мерзких словенских, но от Бога моего.
Сотворил знамение неведомое – и змея, покорившись, вышла из чрева Зеницы и, полежав немного, вид приняла сажди и пепла, чем все изумлены были немало.
Зеница же не токмо телом, но и душой исцелилась, познавши после того чуда веру истинную. И вяще отца своего и матери своей возлюбила нищих, голодных и сирых, и во вретищах сущих, и странных калик перехожих, – и с ними пребывала все дни, творя благостыню.
Во времени тому упещерились поля вешними цветами, Зеница же тем цветам была подобна лепотой нежной своей. Стрелою греховной уязвлены, многие мужи рода доброго и богатства немалого восхотели женою взять Зеницу-деву, она же, усмехнувшись, сказала им:
– Уже отдала я себя. Утром рано придите завтра – увидите.
Было еще солнце красно, как мед, и холодная сияла роса. И увидели: перед узорным крыльцом стояла нищая, серая череда.
– Убогих невеста я, но не ваша! – сказала Зеница мужам изумленным.
И так пребывала Зеница браконеискусною девой пять лет. По скончании пятого восстал в готской земле царь горделивый и злу изобретник, именем Ерман. И как ночь тьмою все наполняет, так наполнил и Ерман-царь воинами своими всю землю родимичскую, и древлянскую, и северянскую, и полянскую, и мерю, и весь, и чудь: от моря Сурожского и до моря Варяжского. И мужеский пол в землях тех истребляли нещадно.
Убегая смертной годины, воины родимичские скрылись в лесах, окрест сущих. Жены же преданы были в руки враг беззаконных, неразумных и варварских язык. И все жены, противлявшиеся нечестию распаленному воинов готских, были биемы нещадно жилами турьими, уды же нежные их опаляемы были повсюду лампадами огненными.
Зеница же в то время была скрыта в спряте тайном, изрытом в земле. Слыша стоны мучимых, Зеница сердцем своим доброчестным не захотела одна спастись. И вышедши из убежища, прилежно искала увидеть Ермана именуемого царя. Узрев вежу богатую, украшенную серебром и иными добротами, Зеница спросила:
– Здесь ли Ерман именуемый царь?
Привратник же захотел узнать вину пришествия девы.
– Единому только царю могу поведать про то, – Зеница отвечала.
Видя, что образом дева светла, волосы же у нея как венец златый, привратник пропустил ее в хлевину внутреннюю, где и был царь.
Был же Ерман, царь горделивый, по виду подобен некому дивию зверю. И никто прямо взглянуть на него не мог, но клонился долу. Зеница же воззрела твердо:
– Почто воинам своим не претишь, о беззаконниче, муками мучити жен?
Ерман же царь, разженный нежной лепотой девы, в молчании на нее смотрел, как лев, в пустыне видящий снедь. А заговорил словами услажательными и ласковыми:
– Возлюбленнице моя, хочешь, и тотчас воинам запрещу мучить жен? И клянусь словом своим: не только отпустят их, но еще и брашна всякого им дадут. Знаю я, в пище у вас скудота, кроме лящи моченой нет ничего.
Зеница же возопила к нему:
– Молю, да будет по слову твоему!
Ерман же ей отвечал:
– Если и правда хочешь, да будет по клятве моей, приди и ляг на ложе со мною.
Воздела Зеница к небу стеблие белое рук:
– Люте мне, люте! Пелыня мне горше сия!
Помыслив же мало, в сердце своем решила: «не хульно будет сие спасению моему, но благо». И одежды совлекши, взошла на ложе царево.
Узнав веру ея, царь Ерман злодушный поднял ее на стыд и подсмех:
– Где же теперь целомудрие твое доброчестно, заповеданное тебе верой твоей?
Дева же мудрая царю отвечала:
– Тленное телесе озлобление оскорбит меня только здесь, а там – телесное нечестие в честь мне будет, ибо гонимых ради то сотворила.