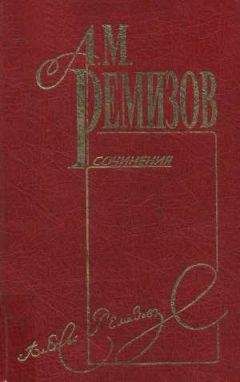И тут опять говорят – слышу – куаффер Альфред.
– Куаффер Альфред, – говорят, – внук этой бонфам сорсьер.
И совсем неожиданно я его увидел.
Случайно заглянул я в окно на дорогу – на море что-то не просто поварчивало, верно, к ночи разыграется буря, – как я люблю это дикое море, гул и крик ветра, эти темные первородные голоса – которым в ответ мой голос моего сердца – та же буря и ночь! – и вот в траве около виноградных гряд увидел я: видит – зеленый, как трава, и с тоненькой шейкой, как стебелек.
И когда я рассказал, что видел странного мальчика, и почему он неподвижно сидел в траве?
– Да это и есть куаффер Альфред. Перед бурей у него болит сердце, вот он так и сидит неподвижно.
– Но почему он такой зеленый?
– Слабый, питается плохо: мули, палюрды – вот и все, и никогда не дают мяса.
Я подумал: от бедности.
– Нет, – говорят, – вовсе не бедные: отец служит на железной дороге – чистильщик вагонов, мать – хозяйка, продает молоко, бабушка – сорсьер. Совсем не бедные. Это мать и прочит его в куафферы: выгодное мэтье.
А вскоре и появился Альфред.
Затеяли сниматься. Собрали всю Академию: Жан, Ренэ, Бенжамен, Морис, Морис Второй и Альфред. И тут я разглядел его: его глаза – зрачки, как палочки. Он робко поздоровался со мной: такое было, что убежит. И когда все смеялись, он ни разу не улыбнулся. Жалко мне его было, а и еще жальче стало: сразу видно, больной. Пробовал я с ним заговаривать, но на все мои вопросы он отвечал как-то вздохом из вздоха: «вв-уй». Или молчит.
Сниматься ему понравилось. И с этого дня он стал приходить: он был уверен, что будут сниматься каждый день. Его кормили. Потом он играл в автокары с Морисом.
Дети ни во что не верят. Они переняли «Калечину-Малечину» и скачут с палкой, они повторяют «Чучела-чумичела», все заключая неизменным полюбившимся «не-ет». И когда я попробовал рассказать какие это странные духи водятся на русской земле – все они только улыбались: нет никаких духов, и все это только сказки…
– Не-ет!
Поздним вечером я провожал Мориса к колодцу, – колодец в подвале. Морис боится ходить один, и я нарочно пошел проверить. Да, он боится, ему просто жутко: в подвале темно и сыро. Но это пройдет.
В церкви давали концерт: приезжий украинский хор – униаты. И когда запели о «Почаевской Богородице» – в угой песне собрано столько боли векового народного горя, и последняя мольба и единственная надежда; от внезапной радости умирают, но плач о грехе и плач о беде, когда нет избавления, это такая боль, и все взвеяно песней… которая и каменного тронет – Морис зевал, посматривая на программу, скоро ли кончится. И потом, во время «бенедиксион», под колокольчик Морис нагнул голову и оставался неподвижен до колокольчика: потому что боялся кюре, как темного и сырого подвала, – «кюре очень строгий, и его никто не любит».
– А Альфред во все верит! – сказал Морис.
И, действительно, когда я рассказывал Альфреду всякие чудеса, и арабские – из Шахразады, и наши – из «Посолони», про кикимор, боли-бошку, куринаса и про джиннов, и как «гуль» – наша «полудница» подстерегает одиноких путников и губит, и как я видел здесь, на берегу: – ни лица, ни глаз, только ноги и хвост –
– Вв-уй.
И как Калечина-Малечина прыгает в сумерки на своей одной ножке, одноглазая и однорукая –
– Вв-уй.
Альфред один из всех верил в «серпан» – в ту самую змею, которую никто никогда не видел и которая в лунные ночи появляется на дороге и «ходит», ест «мюры» – ежевику. И верил в «бугр-бугра»: боном на гусиных лапах – его тоже никто не видел – в красном фартуке, на левой руке четыре пальца, а может перенести любой и самый тяжелый камень – менгир.
И когда я Альфреду показал на каменной стене вырезанную в осеннюю бурю отчаянным хлестом прутьев странную фигуру с лицом нечеловеческим – «эспри дома» – домового –
– Вв-уй.
И мне его было очень жалко: без улыбки, бледный до зелени и эти глаза… – «С ума сойдет, с такими глазами плохо кончают!» – вспомнилось, сказала мать Мориса.
– Ты будешь куаффер? – спросил я Альфреда.
– Вв-уй.
– Но ты хочешь быть куаффером?
Но, вместо ответа, на меня глядели глаза со зрачками, как вытянутое язычком пламя, глаза, видящие больше – чего никто не видел, может быть, переданные от его бабушки – «сорсьер».
Зосима Злобин248 весной появился в Париже из Москвы с театром Мейерхольда249. И до глубокой осени не оставлял нас, днюя и ночуя в нашем Булонском вертепе: наша квартира – под боком лес, из Парижа нарочно приезжают, а нам за дверь и попал.
Зосима стихами не занимался – нынче всякий лентяй пишет стихи – молчальник по природе. Не одиночка, в Вологде такие нетопыри водятся в изобилии: леса, реки и белые ночи с комарами замалчивают душу.
Акробат, – выйдешь с ним на Елисейские поля, наше avenue Jean-Baptiste-Clement идет до остановки автобуса «колесом», прохожие только пучат пялки, а автомобили рукой машут, скрежеща: «salaud». Или примется прыгать с палкой через голову, и все на людях, смотреть жутко: вот шею себе свернет, а бережливому страшно за его палку, выдержит ли и надолго ль?
Зосима и фокусы показывает, глазам не поверишь. Не говоря ни слова, воткнет себе в руку английскую булавку, зашпилит и, передохнув, вытащит. И получается только ссадина, ни кровинки.
Много тыкать он не соглашался, а очень это всем нравилось: «проткни еще!» – так скажут: на противоприродное глаз человеческий жаден.
И в хиромантии немножечко понимал: по руке судьбу расскажет – в линиях и загибах по пересеку доберется до самого «было» и «будет». И на картах погадать может. Я ему подсовывал Сведенборга250 и тибетские Бурхан-Мандшишира, – «не годятся». Я понимаю, ему давай не картинки, была б масть и число: самоговорящие картинки закрывают соображение и догадку и гасят игру гадальщика.
С фокусами выступал Зосима на Тверском бульваре, когда по образу «Ломоносова» появился он из Вологды на Москве. Это было в годы «военного коммунизма», и не очухаясь, попал он в клещи кругосветного мошенничества по «бедовому декрету». А пришел он из Вологды в Москву учиться. Да всему. Как когда-то и я, попав в Университет, мечтал пройти все факультеты. Колесо и палка обратили на себя внимание. И первой премудростью среди наук, которую постиг он, были танцы. Бросил он Тверской бульвар и заделался учителем танцев.
С лица мало заметный: безрастительная, серая вздернутая маска с крепким белым оскалом, но мне знакомое и памятное по старинным гравюрам: шпильманы, игрецы и гудцы. И особенно глаза – побуревшая китайка окружила их, будто выжжено, а из выжига бесцветные, они светили и таращились.
Жадность его к образованию, все знать и всему научиться, превысила всякие примеры из нравоучительных книжек: он садился за книгу и не прерывал чтения, пока не кончит, случалось – с утра до глубокой ночи.
Появление в России за последние годы «Бенедиктинских» ученых трудов с указателями только и мыслимо при таком вот упорстве и непрерывности.
Вечерами, как всегда, я читал вслух. С каким неморгающим вниманием он слушал меня. Особенно его тронула сказка Л. Н. Толстого о «Трех старцах» – это восхищающее чудо – крылья веры, а из Тургенева «Живые мощи» в моей редакции (снимаю сюк и сахар с барской манеры сказа) – какая горечь жизни. И из Слепцова «Питомка» – о утрате и ожесточенных поисках навсегда утраченного.
Зосима, не в пример другим наброжим, помогал нам в хозяйстве. Впрочем, мы были исключением. В Париже с кем только он не познакомился, и все были для него «сосок»: ему надо было всех использовать и урвать все, что только возможно, чтобы осуществить свою заветную мечту.
Он приехал в Париж вовсе не для того, чтобы учиться, а чтобы, как сам он признавался, «стереть в порошок Европу» и своим акробатическим искусством побить морду и самому первому европейскому гимнасту.
Время показало, что на «колесо» и «перепрыгную палку» зевали только мы, да наши булонские соседи, а тем, кто в этих акробатических делах разбирался, ничего особенного, и что тут этого добра не занимать стать. И пришлось подумать о возвращении в Россию.
Прощались мы по-братски, мне было очень жалко Зосиму: размахнуться впустую. В прежние годы ехали в заморские страны уму-разуму набраться, а его дернуло – знай наших!
На эту удочку не один Зосима попался, ну, и в том толк, без задору не проживешь.
Со стиснутыми зубами я прохожу по улицам – я выбираю самые широкие, самые людные, рассвеченные в огнях рекламы и налитые до лони человеческой кровью – последняя и каждая кровинка моей крови горит.