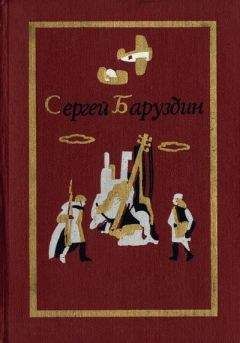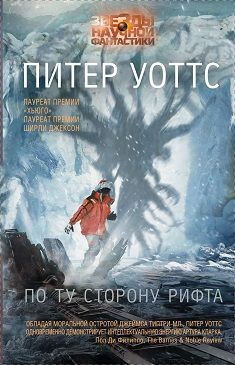Дальний Восток и в Америку, не говоря уже о челюскинцах и папанинцах. Не только по фамилии, а и по имени-отчеству. Футболистов «Торпедо», «Спартака» — тоже. Даже разных там иностранных представителей в Лиге наций. Все высоты у озера Хасан: Безымянная, Черная, Богомольная, Заозерная, Пулеметная Горка, Междорожная…
Знал, наверно, потому, что любил читать газеты — взрослые, не только «Пионерскую правду».
А что Сережки! Про Сережки в газетах не писали. И бабушке в Сережки ему писем писать не приходилось. Летом бабушка, верно, иногда гостила у них в Москве, а иногда и зимой, к рождеству, а точнее, к Новому году, приезжала!
— Думаешь, из-за березкиных сережек? — продолжала Елка. — Вот и нет, хотя и много у нас берез вокруг. Просто помещик у нас тут жил один, в нашей школе, только до революции это было. Так, говорят, чудаковатый… Всех детей своих Сережками называл. А у него одни мальчишки и нарождались. Шесть детей, и все мальчишки! Вот и повелось — Сережки!.. Так папа мне объяснял. И мама. Вот!
— Интересно! — не выдержал Ленька, в самом деле пораженный неожиданным открытием. Но подумал о другом.
«Папа», «мама». Это смешно! Елке тринадцать лет, не маленькая уже, а говорит, как маленькая. Ленька никогда бы так не смог сказать: «мама», «папа». Ну уж лучше: «мам», «пап»… Или «мать», «отец», когда говоришь о родителях с ребятами.
И все же почему она, приземистая, коренастая, не похожая ни на елку, ни на палку (уж скорей Ленька был в ее глазах палкой), зовется Елкой, не понял.
Ленька был почти на голову выше Елки. Но оказалось, что это ничего не значит. Он робел перед ней, краснел, как перед старшей. Куда делась московская самоуверенность? А она болтала без умолку. И спрашивала. И знала больше его. А ведь была одноклассница и, уж если говорить о возрасте, на два месяца моложе Леньки.
— А Елка? — Она улыбнулась, и ее длинные, выгоревшие ресницы зашевелились, как мохнатые гусеницы. — Мама когда-то так назвала. Она русская у меня… Так и повелось — Елка! Все привыкли…
— Почему русская? — не понял Ленька. — А какая же еще?
— Папа у меня эстонец. Только обрусевший, — пояснила Елка. — Хочешь, Анкой зови или Аней. Так тоже можно. Только на самом деле меня Эндой зовут, через «э» оборотное. Это по-русски значит «Своя»… Вот!
Леньке казалось, что она обыкновенная деревенская девчонка. Ходит босиком. Лицо с веснушками. Выгоревшие волосы и куцые косы. Даже глаза круглые, большие и, сразу видно, не голубые, не серые, не карие, а выгоревшие, бледные. И полинявшее платьице выше колен, не такое, какие носили городские девчонки. И вдруг… папа — эстонец, Энда — «Своя»…
— Значит, ты иностранка? — Ленька вовсе удивился.
Живых иностранцев ему видеть не случалось. Если не считать испанцев, да и то детей, которые приходили к ним в школу на пионерский сбор. Их было много в ту пору в Москве. Но испанцы почти не понимали по-русски, а Ленька, как и все ребята, понимал из их слов лишь одно: «Но пасаран! — Они не пройдут!» Это про фашистов, конечно.
— Какая же я иностранка, когда я и языка эстонского не знаю и в Эстонии не была! — сказала Елка. — Знаю «тере» — и все! «Здравствуйте», значит. Вот…
Елка, Елочка, Анка, Аня, Энда, Своя… Этой премудрости Ленька сразу уразуметь не мог. В тринадцать лет да рядом с такой девчонкой — сложно.
— Я буду лучше звать тебя просто Елкой, — пробормотал он. — Ладно?
— А мне-то что! — весело сказала она. — Как удобнее, так и зови. — И тут же добавила: — В кино пойдешь со мной? «Семеро смелых». В клубе вечером крутят…
— Конечно. Почему не пойду!
— Так давай я за билетами сбегаю! А то, пока мы тут разговоры разговариваем, билеты пропустишь!
Потом, в то же лето, Ленька, кажется, понял, почему она Елка. В самом деле, колюча, ершиста, как елка. Что ни слово ей — в штыки, ехидничает или смеется.
Ленька приехал в подмосковную деревню Сережки. Приехал на лето к бабушке, хотя мечтал совсем о другом — о пионерском лагере.
Впрочем, что там — приехал! Леньку привезла в де резню мать, обеспокоенная состоянием его здоровья после воспаления легких. Правда, она до последнего дня говорила: «Ты знаешь, путевки в лагерь мне пока достать не удалось. И все же, может быть…» Но Ленька знал, что дело вовсе не в этой путевке, а как раз в воспалении.
После воспаления легких Ленька, правда, был тощ, как жердь, — таких жердей можно найти великое множество и в самой деревне возле изб и за ее пределами: у скотного двора, конюшни и огородов. Ленька был, наконец, бледен, как вода в Наре, где ему на первых порах запрещалось купаться.
— Ты уж на реку-то не ходи, Ленек, — просила бабушка. — А то я маме твоей слово дала.
Это Ленька и сам знал.
— Купаться ты будешь не раньше середины июля, когда вода в реке окончательно прогреется, — наставляла его мать. — И очень прошу тебя не спорить со мной! Иначе я скажу папе. Мы с ним все продумали, все учли…
Родители, видимо, и вправду все продумали, все учли. Кроме одного: купаться Ленька мог и так, не обязательно на глазах у бабушки.
Ну что ж, пусть он не попал в пионерский лагерь, как хотел, все равно. Деревня так деревня. Сережки. Пусть Сережки. — Есть что-то и поважнее деревни и лагеря. Лагерь лагерем, а экзамены? Экзамены не шутка! Воспаление легких накануне экзаменов — что может быть удачнее!
В шестой класс Леньку перевели без экзаменов как раз благодаря воспалению легких. Все одноклассники завидовали ему. Еще бы! На экзаменах многие схватывали отметки куда хуже четвертных. А Леньке именно по ним, четвертным, выставили годовые. И все! Три «посредственно» (их называли ласково — «посики»), остальные — «хорошо» и «отлично». И хотя отличные оценки у Леньки только по физкультуре и поведению (по поведению ниже отметок вообще не ставили, даже самым отъявленным лоботрясам, загремевшим на второй год), все равно это были «отлично». Ленька ликовал!
Но отцу об этом не скажешь. Матери — тем более.
Ленька похвастался перед Елкой. В тот же день, когда познакомился с ней в магазине.
Елка почему-то отнеслась к его сообщению о школьных успехах довольно спокойно.
— Подумаешь! Похвальбушка! — сказала она. — У меня тоже два «посика». Только я не болела и сдавала экзамены, как все…
То ли из-за этой Елки, то ли еще почему, но деревня Леньке окончательно разонравилась. Впрочем, ему и