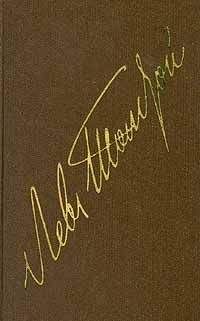Она подняла чашку, отставив мизинец, и поднесла ее ко рту. Отпив несколько глотков, она взглянула на него и по выражению его лица ясно поняла, что ему противны были рука, и жест, и звук, который она производила губами.
— Мне совершенно все равно, что думает твоя мать и как она хочет женить тебя, — сказала она, дрожащею рукой ставя чашку.
— Но мы не об этом говорим.
— Нет, об этом самом. И поверь, что для меня женщина, без сердца, будь она старуха или не старуха, твоя мать или чужая, не интересна, и я ее знать не хочу.
— Анна, я прошу тебя не говорить неуважительно о моей матери.
— Женщина, которая не угадала сердцем, в чем лежит счастье и честь ее сына, у той женщины нет сердца.
— Я повторяю свою просьбу: не говорить неуважительно о матери, которую я уважаю, — сказал он, возвышая голос и строго глядя на нее.
Она не отвечала. Пристально глядя на него, на его лицо, руки, она вспоминала со всеми подробностями сцену вчерашнего примирения и его страстные ласки. «Эти, точно такие же ласки он расточал и будет и хочет расточать другим женщинам!» — думала она.
— Ты не любишь мать. Это все фразы, фразы и фразы! — с ненавистью глядя на него, сказала она.
— А если так, то надо…
— Надо решиться, и я решилась, — сказала она и хотела уйти, но в это время в комнату вошел Яшвин. Анна поздоровалась с ним и остановилась.
Зачем, когда в душе у нее была буря и она чувствовала, что стоит на повороте жизни, который может иметь ужасные последствия, зачем ей в эту минуту надо было притворяться пред чужим человеком, который рано или поздно узнает же все, — она не знала; но, тотчас же смирив в себе внутреннюю бурю, она села и стала говорить с гостем.
— Ну, что ваше дело? получили долг? — спросила она Яшвина.
— Да ничего; кажется, что я не получу всего, а в середу надо ехать. А вы когда? — сказал Яшвин, жмурясь поглядывая на Вронского и, очевидно, догадываясь о происшедшей ссоре.
— Кажется, послезавтра, — сказал Вронский.
— Вы, впрочем, уже давно собираетесь.
— Но теперь уже решительно, — сказала Анна, глядя прямо в глаза Вронскому таким взглядом, который говорил ему, чтобы он и не думал о возможности примирения.
— Неужели же вам не жалко этого несчастного Певцова? — продолжала она разговор с Яшвиным.
— Никогда не спрашивал себя, Анна Аркадьевна, жалко или не жалко. Все равно как на войне не спрашиваешь, жалко или не жалко. Ведь мое все состояние тут, — он показал на боковой карман, — и теперь я богатый человек; а нынче поеду в клуб и, может быть, выйду нищим. Ведь кто со мной садится — тоже хочет оставить меня без рубашки, а я его. Ну, и мы боремся, и в этом-то удовольствие.
— Ну, а если бы вы были женаты, — сказала Анна, — каково бы вашей жене?
Яшвин засмеялся.
— Затем, видно, и не женился и никогда не собирался.
— А Гельсингфорс? — сказал Вронский, вступая в разговор, и взглянул на улыбнувшуюся Анну.
Встретив его взгляд, лицо Анны вдруг приняло холодно-строгое выражение, как будто она говорила ему: «Не забыто. Все то же».
— Неужели вы были влюблены? — сказала она Яшвину.
— О господи! сколько раз! Но, понимаете, одному можно сесть за карты, но так, чтобы всегда встать, когда придет время rendez-vous[118]. А мне можно любовью заниматься, но так, чтобы вечером не опоздать к партии. Так и устраиваю.
— Нет, я не про то спрашиваю, а про настоящее. — Она хотела сказать Гельсингфорс; но не хотела сказать слово, сказанное Вронским.
Приехал Войтов, покупавший жеребца; Анна встала и вышла из комнаты.
Пред тем как уезжать из дома, Вронский вошел к ней. Она хотела притвориться, что ищет что-нибудь на столе, но, устыдившись притворства, прямо взглянула ему в лицо холодным взглядом.
— Что вам надо? — спросила она его по-французски.
— Взять аттестат на Гамбетту, я продал его, — сказал он таким тоном, который выражал яснее слов: «Объясняться мне некогда, и ни к чему не поведет».
«Я ни в чем не виноват пред нею, — думал он. — Если она хочет себя наказывать, tant pis pour elle[119]. Но, выходя, ему показалось, что она сказала что-то, и сердце его вдруг дрогнуло от сострадания к ней.
— Что, Анна? — спросил он.
— Я ничего, — отвечала она так же холодно и спокойно.
«А ничего, так tant pis», — подумал он, опять похолодев, повернулся и пошел. Выходя, он в зеркало увидал ее лицо, бледное, с дрожащими губами. Он и хотел остановиться и сказать ей утешительное слово, но ноги вынесли его из комнаты, прежде чем он придумал, что сказать. Целый этот день он провел вне дома, и когда приехал поздно, девушка сказала ему, что у Анны Аркадьевны болит голова и она просила не входить к ней.
Никогда еще не проходило дня в ссоре. Нынче это было в первый раз. И это была не ссора. Это было очевидное признание в совершенном охлаждении. Разве можно было взглянуть на нее так, как он взглянул, когда входил в комнату за аттестатом? Посмотреть на нее, видеть, что сердце ее разрывается от отчаяния, и пройти молча с этим равнодушно-спокойным лицом? Он не то что охладел к ней, но он ненавидел ее, потому что любил другую женщину, — это было ясно.
И, вспоминая все те жестокие слова, которые он сказал, Анна придумывала еще те слова, которые он, очевидно, желал и мог сказать ей, и все более и более раздражалась.
«Я вас не держу, — мог сказать он. — Вы можете идти, куда хотите. Вы не хотели разводиться с вашим мужем, вероятно, чтобы вернуться к нему. Вернитесь. Если вам нужны деньги, я дам вам. Сколько нужно вам рублей?»
Все самые жестокие слова, которые мог сказать грубый человек, он сказал ей в ее воображении, и она не прощала их ему, как будто он действительно сказал их.
«А разве не вчера только он клялся в любви, он, правдивый и честный человек? Разве я не отчаивалась напрасно уже много раз?» — вслед за тем говорила она себе.
Весь этот день, за исключением поездки к Вильсон, которая заняла у нее два часа, Анна провела в сомнениях о том, все ли кончено или есть надежда примирения и надо ли ей сейчас уехать или еще раз увидать его. Она ждала его целый день и вечером, уходя в свою комнату, приказав передать ему, что у нее голова болит, загадала себе: «Если он придет, несмотря на слова горничной, то, значит, он еще любит. Если же нет, то, значит, все кончено, и тогда я решу, что мне делать!..»
Она вечером слышала остановившийся стук его коляски, его звонок, его шаги и разговор с девушкой: он поверил тому, что ему сказали, не хотел больше ничего узнавать и пошел к себе. Стало быть, все было кончено.
И смерть, как единственное средство восстановить в его сердце любовь к ней, наказать его и одержать победу в той борьбе, которую поселившийся в ее сердце злой дух вел с ним, ясно и живо представилась ей.
Теперь было все равно: ехать или не ехать в Воздвиженское, получить или не получить от мужа развод — все было ненужно. Нужно было одно — наказать его.
Когда она налила себе обычный прием опиума и подумала о том, что стоило только выпить всю стклянку, чтобы умереть, ей показалось это так легко и просто, что она опять с наслаждением стала думать о том, как он будет мучаться, раскаиваться и любить ее память, когда уже будет поздно. Она лежала в постели с открытыми глазами, глядя при свете одной догоравшей свечи на лепной карниз потолка и на захватывающую часть его тень от ширмы, и живо представляла себе, что он будет чувствовать, когда ее уже не будет и она будет для него только одно воспоминание. «Как мог я сказать ей эти жестокие слова? — будет говорить он. — Как мог я выйти из комнаты, не сказав ей ничего? Но теперь ее уж нет. Она навсегда ушла от нас. Она там…» Вдруг тень ширмы заколебалась, захватила весь карниз, весь потолок, другие тени с другой стороны рванулись ей навстречу; на мгновение тени сбежали, но потом с новой быстротой надвинулись, поколебались, слились, и все стало темно. «Смерть!» — подумала она. И такой ужас нашел на нее, что она долго не могла понять, где она, и долго не могла дрожащими руками найти спички и зажечь другую свечу вместо той, которая догорела и потухла. «Нет, все — только жить! Ведь я люблю его. Ведь он любит меня! Это было и пройдет», — говорила она, чувствуя, что слезы радости возвращения к жизни текли по ее щекам. И, чтобы спастись от своего страха, она поспешно пошла в кабинет к нему.
Он спал в кабинете крепким сном. Она подошла к нему и, сверху освещая его лицо, долго смотрела на него. Теперь, когда он спал, она любила его так, что при виде его не могла удержать слез нежности; но она знала, что если б он проснулся, то он посмотрел бы на нее холодным, сознающим свою правоту взглядом, и что, прежде чем говорить ему о своей любви, она должна бы была доказать ему, как он был виноват пред нею. Она, не разбудив его, вернулась к себе и после другого приема опиума к утру заснула тяжелым, неполным сном, во все время которого она не переставала чувствовать себя.