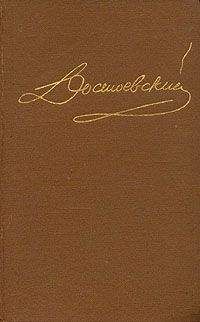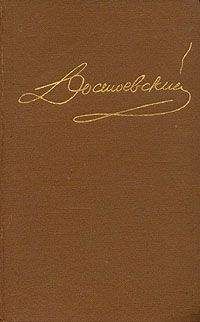Мы сходим к подъезду. Карета действительно премиленькая, и Александр Петрович на первых порах своего владения ею ощущает чрезвычайное удовольствие и даже некоторую душевную потребность подвозить в ней своих знакомых.
В карете Александр Петрович опять несколько раз пускается в рассуждения о современной литературе. При мне он не конфузится и преспокойно повторяет разные чужие мысли, слышанные им на днях от кого-нибудь из литераторов, которым он верит и чье суждение уважает. При этом ему случается иногда уважать удивительные вещи. Случается ему тоже перевирать чужое мнение или вставлять его не туда, куда следует, так что выходит бурда. Я сижу, молча слушаю и дивлюсь разнообразию и прихотливости страстей человеческих. «Ну, вот человек, — думаю я про себя, — сколачивал бы себе деньги да сколачивал; нет, ему еще нужно славы, литературной славы, славы хорошего издателя, критика!»
В настоящую минуту он силится подробно изложить мне одну литературную мысль, слышанную им дня три тому назад от меня же, и против которой он, три дня тому назад, со мной же спорил, а теперь выдает ее за свою. Но с Александром Петровичем такая забывчивость поминутно случается, и он известен этой невинной слабостью между всеми своими знакомыми. Как он рад теперь, ораторствуя в своей карете, как доволен судьбой, как благодушен! Он ведет учено-литературный разговор, и даже мягкий, приличный его басок отзывается ученостью. Мало-помалу он залиберальничался и переходит к невинно-скептическому убеждению, что в литературе нашей, да и вообще ни в какой и никогда, не может быть ни у кого честности и скромности, а есть только одно «взаимное битье друг друга по мордасам» — особенно при начале подписки. Я думаю про себя, что Александр Петрович наклонен даже всякого честного и искреннего литератора за его честность и искренность считать если не дураком, то по крайней мере простофилей. Разумеется, такое суждение прямо выходит из чрезвычайной невинности Александра Петровича.
Но я уже его не слушаю. На Васильевском острове он выпускает меня из кареты, и я бегу к нашим. Вот и Тринадцатая линия, вот и их домик. Анна Андреевна, увидя меня, грозит мне пальцем, махает на меня руками ишикает на меня, чтоб я не шумел.
— Нелли только что заснула, бедняжка! — шепчет она мне поскорее, — ради бога, не разбудите! Только уж очень она, голубушка, слаба. Боимся мы за нее. Доктор говорит, что это покамест ничего. Да что от него путного-то добьешься, от вашего доктора! И не грех вам это, Иван Петрович? Ждали вас, ждали к обеду-то… ведь двое суток не были!..
— Но ведь я объявил еще третьего дня, что не буду двое суток, — шепчу я Анне Андреевне. — Надо было работу кончать…
— Да ведь к обеду сегодня обещался же прийти! Что ж не приходил? Нелли нарочно с постельки встала, ангельчик мой, в кресло покойное ее усадили, да и вывезли к обеду: «Хочу, дескать, с вами вместе Ваню ждать», а наш Ваня и не бывал. Ведь шесть часов скоро! Где протаскался-то? Греховодники вы эдакие! Ведь ее вы так расстроили, что уж я не знала, как и уговорить… благо заснула, голубушка. А Николай Сергеич к тому же в город ушел (к чаю-то будет!); одна и бьюсь… Место-то ему, Иван Петрович, выходит; только как подумаю, что в Перми, так и захолонет у меня на душе…
— А где Наташа?
— В садике, голубка, в садике! Сходите к ней… Что-то она тоже у меня такая… Как-то и не соображу… Ох, Иван Петрович, тяжело мне душой! Уверяет, что весела и довольна, да не верю я ей… Сходи-ка к ней, Ваня, да мне и расскажи ужо потихоньку, что с ней… Слышишь?
Но я уже не слушаю Анну Андреевну, а бегу в садик. Этот садик принадлежит к дому; он шагов в двадцать пять длиною и столько же в ширину и весь зарос зеленью. В нем три высоких старых, раскидистых дерева, несколько молодых березок, несколько кустов сирени, жимолости, есть уголок малинника, две грядки с клубникой и две узеньких извилистых дорожки, вдоль и поперек садика. Старик от него в восторге и уверяет, что в нем скоро будут расти грибы. Главное же в том, что Нелли полюбила этот садик, и ее часто вывозят в креслах на садовую дорожку, а Нелли теперь идол всего дома. Но вот и Наташа; она с радостью встречает меня и протягивает мне руку. Как она худа, как бледна! Она тоже едва оправилась от болезни.
— Совсем ли кончил, Ваня? — спрашивает она меня.
— Совсем, совсем! И на весь вечер совершенно свободен.
— Ну, слава богу! Торопился? Портил?
— Что ж делать! Впрочем, это ничего. У меня выработывается, в такую напряженную работу, какое-то особенное раздражение нервов; я яснее соображаю, живее и глубже чувствую, и даже слог мне вполне подчиняется, так что в напряженной-то работе и лучше выходит. Всё хорошо…
— Эх, Ваня, Ваня!
Я замечаю, что Наташа в последнее время стала страшно ревнива к моим литературным успехам, к моей славе. Она перечитывает всё, что я в последний год напечатал, поминутно расспрашивает о дальнейших планах моих, интересуется каждой критикой, на меня написанной, сердится на иные и непременно хочет, чтоб я высоко поставил себя в литературе. Желания ее выражаются до того сильно и настойчиво, что я даже удивляюсь теперешнему ее направлению.
— Ты только испишешься, Ваня, — говорит она мне, — изнасилуешь себя и испишешься; а кроме того, и здоровье погубишь. Вон С ***, тот в два года по одной повести пишет, а N * в десять лет всего только один роман написал.* Зато как у них отчеканено, отделано! Ни одной небрежности не найдешь.
— Да, они обеспечены и пишут не на срок; а я — почтовая кляча! Ну, да это всё вздор! Оставим это, друг мой. Что, нет ли нового?
— Много. Во-первых, от него письмо.
— Еще?
— Еще. — И она подала мне письмо от Алеши. Это уже третье после разлуки. Первое он написал еще из Москвы и написал точно в каком-то припадке. Он уведомлял, что обстоятельства так сошлись, что ему никак нельзя воротиться из Москвы в Петербург, как было проектировано при разлуке. Во втором письме он спешил известить, что приезжает к нам на днях, чтоб поскорей обвенчаться с Наташей, что это решено и никакими силами не может быть остановлено. А между тем по тону всего письма было ясно, что он в отчаянии, что посторонние влияния уже вполне отяготели над ним и что он уже сам себе не верил. Он упоминал, между прочим, что Катя — его провидение и что она одна утешает и поддерживает его. Я с жадностью раскрыл его теперешнее, третье письмо.
Оно было на двух листах, написано отрывочно, беспорядочно, наскоро и неразборчиво, закапано чернилами и слезами. Начиналось тем, что Алеша отрекался от Наташи и уговаривал ее забыть его. Он силился доказать, что союз их невозможен, что посторонние, враждебные влияния сильнее всего и что, наконец, так и должно быть: и он и Наташа вместе будут несчастны, потому что они неровня. Но он не выдержал и вдруг, бросив свои рассуждения и доказательства, тут же, прямо, не разорвав и не отбросив первой половины письма, признавался, что он преступник перед Наташей, что он погибший человек и не в силах восстать против желаний отца, приехавшего в деревню. Писал он, что не в силах выразить своих мучений; признавался, между прочим, что вполне сознает в себе возможность составить счастье Наташи, начинал вдруг доказывать, что они вполне ровня; с упорством, со злобою опровергал доводы отца; в отчаянии рисовал картину блаженства всей жизни, которое готовилось бы им обоим, ему и Наташе, в случае их брака, проклинал себя за свое малодушие и — прощался навеки! Письмо было написано с мучением; он, видимо, писал вне себя; у меня навернулись слезы… Наташа подала мне другое письмо, от Кати. Это письмо пришло в одном конверте с Алешиным, но особо запечатанное. Катя довольно кратко, в нескольких строках, уведомляла, что Алеша действительно очень грустит, много плачет и как будто в отчаянии, даже болен немного, но что она с ним и что он будет счастлив. Между прочим, Катя силилась растолковать Наташе, чтоб она не подумала, что Алеша так скоро мог утешиться и что будто грусть его не серьезна. «Он вас не забудет никогда, — прибавляла Катя, — да и не может забыть никогда, потому что у него не такое сердце; любит он вас беспредельно, будет всегда любить, так что если разлюбит вас хоть когда-нибудь, если хоть когда-нибудь перестанет тосковать при воспоминании о вас, то я сама разлюблю его за это тотчас же…»
Я возвратил Наташе оба письма; мы переглянулись с ней и не сказали ни слова. Так было и при первых двух письмах, да и вообще о прошлом мы теперь избегали говорить, как будто между нами это было условлено. Она страдала невыносимо, я это видел, но не хотела высказываться даже и передо мной. После возвращения в родительский дом она три недели вылежала в горячке и теперь едва оправилась. Мы даже мало говорили и о близкой перемене нашей, хотя она и знала, что старик получает место и что нам придется скоро расстаться. Несмотря на то, она до того была ко мне нежна, внимательна, до того занималась всем, что касалось до меня, во всё это время; с таким настойчивым, упорным вниманием выслушивала всё, что я должен был ей рассказывать о себе, что сначала мне это было даже тяжело: мне казалось, что она хотела меня вознаградить за прошлое. Но эта тягость быстро исчезла: я понял, что в ней совсем другое желание, что она просто любит меня, любит бесконечно, не может жить без меня и не заботиться о всем, что до меня касается, и я думаю, никогда сестра не любила до такой степени своего брата, как Наташа любила меня. Я очень хорошо знал, что предстоявшая нам разлука давила ее сердце, что Наташа мучилась; она знала тоже, что и я не могу без нее жить; но мы об этом не говорили, хотя и подробно разговаривали о предстоящих событиях…