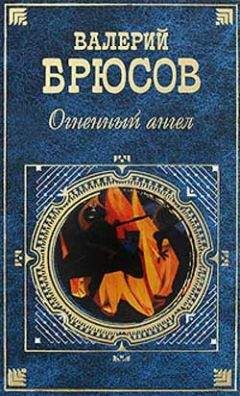Всю осень 1927 года Надя хворала безропотно и неслышно, как жила. Так же тихо и умерла, 13 января 1928 года, от рака желудка. Нина ходила в покойницкую больницы, где Надя лежала. Английской булавкой колола маленький труп сестры, потом той же булавкой – себя в руку: хотела заразиться трупным ядом, умереть единою смертью. Рука, однако ж, сперва опухла, потом зажила.
Нина бывала у меня в это время. Однажды прожила у меня три дня. Говорила со мной на том странном языке девятисотых годов, который когда-то нас связывал, был у нас общим, но который с тех пор я почти уже разучился понимать.
Смертью Нади была дописана последняя фраза затянувшегося эпилога. Через месяц с небольшим, собственной смертью, Нина Петровская поставила точку.
Версаль, 1928
Андрей Белый
«Огненный ангел»
«Огненный Ангел» останется навсегда образцом высокой литературы для небольшого круга истинных ценителей изящного; «Огненный Ангел» – избранная книга для людей, умеющих мыслить образами истории; история – объект художественного творчества; и только немногие умеют вводить исторические образы в поле своего творчества.
История для Валерия Брюсова не является материалом для эффектных сцен; она вся для него в мелочах; но эти мелочи умеет он осветить неуловимой прелестью своего творчества. Валерий Брюсов здесь сделал все, чтобы книга его была проста; творчество его выглядит скромной, одетой в черное платье, девушкой с гладкой прической, но с дорогой камеей на груди; нет в «Огненном Ангеле» ничего кричащего, резкого; есть даже порой «святая скука», какой веет на нас, когда мы читаем повести Вальтер Скотта; и я благодарю автора за растянутость; за то, что своим спокойным тоном он отвлекает меня от фабулы, описывая быт, мелочи этого быта; широкой волной течет предо мной река прошлого, и в медленном течении этой реки отражается кроткий лик его Музы – девушки с гладкой прической. Нет здесь кричащих перьев модернистического демимонда; нет косметики выкриков и страшных псевдосимволических зубовных скрежетов; нет здесь шелестящих шелков импрессионизма, ни брызжущих в нос дешевых духов современных словечек, то есть всего того, чем жив модернизм; несовременен, в высшей степени несовременен Валерий Брюсов в своем романе. Но за это-то и оценят его подлинные любители изящной словесности.
История говорит с нами: Брюсова мы не видим; но в этом умении стушеваться высокое изящество того, кто в нужное время говорил своим языком; ведь теперь язык его присвоили все; десятки новоявленных брюсовцев черпают свой словарь из его словаря.
В «Огненном Ангеле» Брюсов, тем не менее, оригинален; опытной рукой воскрешает он историю; и мы начинаем любить, понимать его детище – историю кельнской жизни 1534 года; будь здесь модернистические перья, мы не увидели бы старинную жизнь Кельна, которую душой полюбил Брюсов; эта жизнь отражается в зеркале его души:
Помню вечер, помню лето,
Рейна полные струи,
Над померкшим старым Кельном
Золотые нимбы света…
И далее:
Где-то пели, где-то пели
Песню милой старины.
Звуки, ветром тиховейным
Донесенные, слабели
И сливались, там, над Рейном,
С робким ропотом волны.
Мы любили! Мы забыли,
Это вечность или час!
Мы тонули в сладкой тайне,
Нам казалось: мы не жили,
Но когда-то Heinrich Heine
В стройных строфах пел про нас!
Я привожу нарочно это стихотворение Брюсова, чтобы яснее выразить свою мысль; как перекликается песня Брюсова с песней Шумана на слова Рейнике; я хочу сказать, что настроение музыки Шумана и слов Брюсова из одного корня – романтизма.
С эпохи «Венка» в Брюсове все слышней песнь романтизма; и «Огненный Ангел» – порождение этой песни; золотым сияньем романтизма окрашен для Брюсова Кельн; эпоха, эрудиция, стремление воссоздать быт старого Кельна – только симптомы романтической волны в творчестве Брюсова; и потому-то не утомляют в романе тысячи отступлений, и потому-то не останавливаемся мы на длиннотах, на некотором схематизме фабулы; не в фабуле – не в документальной точности пленяющая нас нота «Огненного Ангела», а в звуках, которые
…ветром тиховейным
Донесенные, слабели.
И сливались, там, над Рейном,
С робким ропотом волны.
Эти звуки – звуки «милой старины»; вот эти-то звуки своей души стыдливо прячет Брюсов под исторической амуницией, в которой он выступает перед нами; но пленительно отражают душу Брюсова «Рейна тихие струи»; но пленительно сияют на исторической амуниции «золотые нимбы света».
Эти тихие звуки – их забыли; они не слышны на базаре псевдосимволических зубовных скрежетов; тяжелогрохотный модернист, тяжелогрохотно загрохотавший брюсовским стихом, сел верхом на символического коня; тяжелогрохотный скакун символизма тяжело грохочет; и не лицам, покинувшим келью творчества, под стыдливой маской истории расслушать «песню милой старины»: в демимонде ведь все просто; ежели ты пролагаешь новые пути, так греми, труби и взывай; коли хочешь щеголять в импрессионистическом шелку, так шелести им на всю русскую литературу; коли у тебя нет слов о «провалах, безднах и прочем многом», так ты и не символист.
Где же демимонду понять «Огненного Ангела»!
Неспроста вернулся Брюсов к песням о «милой старине»; из старины он вызвал образ Агриппы; он вводит нас в атмосферу того освободительного движения в мистике, которое в лице Агриппы и Парацельса, учеников Тридгейма, породило, быть может, интереснейшее течение; течение это, правда, погасло в Иоанне Вейере, но оно продолжалось в учениках Парацельса – Боденштейне, Кунрате, ван Гельмонте и других до начала XIX столетия; течение это, быть может, и теперь живо и по-своему воскресает в современности; то, о чем заговаривает Стриндберг, стыдливо встает в образах Брюсова, намеренно завуалированных «археологической пылью»; нужно быть глухим и слепым по отношению к заветнейшим устремлениям символизма, чтобы не видеть в образах «милой старины», вызванных Брюсовым, самой жгучей современности. Брюсов не остался в символической толкучке; и толкучка решила, что Брюсов устарел; но вчитайтесь в Брюсова, разглядите героев его романа, – и вы увидите, что они символы, быть может, близкого будущего, о котором и не подозревает толкучка.
«Огненный Ангел» – произведение извне историческое («звуки милой старины»), изнутри же оккультное. Фабула, так неожиданно, даже механически оборванная, есть рассказ о том, о чем нельзя говорить, не закрываясь историей.
Брюсов является в своем романе то скептиком, то, наоборот, суеверно верующим оккультистом; из-под маски Локка и Юма выглядывает лицо Агриппы; но едва вы поверите в это лицо, оно становится маской; из-под маски над вами уже смеется ученик английской психологии; и так далее, и так далее. Но в этой игре с читателем мы усматриваем вовсе не хитрость…
Впрочем, не будем распространяться: все это демимонду останется до конца непонятным; демимонд увлекается тяжелогрохотным грохотом символических эпигонов и мировым разумом, стоящим на сцене с бутафорским мечом в руке.
Валерий Брюсов
Последние страницы из дневника женщины
Событие совершенно неожиданное. Мужа нашли убитым в его кабинете. Неизвестный убийца разбил Виктору череп гимнастической гирей, обычно лежащей на этажерке. Окровавленная гиря валяется тут же, на полу. Ящики стола взломаны. Когда к Виктору вошли, тело его еще было теплым. Убийство совершено под утро.
В доме какая-то недвижная суетня. Лидочка рыдает и ходит из комнаты в комнату. Няня все что-то хлопочет и никому не дает ничего делать. Прислуги считают долгом быть безмолвными. А когда я спросила кофе, на меня посмотрели как на клятвопреступницу. Боже мой! Что за ряд мучительных дней предстоит! Говорят: пришла полиция.
Кто только не терзал меня сегодня!
Чужие люди ходили по нашим комнатам, передвигали нашу мебель, писали на моем столе, на моей бумаге…
Был следователь, допрашивал всех, и меня в том числе. Это – господин с проседью, в очках, такой узкий, что похож на собственную тень. К каждой фразе прибавляет «тэк-с». Мне показалось, что он в убийстве подозревает меня.
– Сколько ваш муж хранил дома денег?
– Не знаю.
– Где был ваш муж вчера вечером перед возвращением домой?
– Не знаю.
– С кем ваш муж чаще встречался последнее время?
– Не знаю.
– Тэк-с.
Откуда я все это могла бы знать? В дела мужа я не вмешивалась. Мы старались жить так, чтобы друг другу не мешать.
Еще следователь спросил, подозреваю ли я кого.
Я ответила, что нет, – разве только политических врагов мужа. Виктор по убеждению был крайний правый, во время революции, когда бастовали фармацевты, он ходил работать в аптеку. Тогда же нам прислали анонимное письмо, в котором угрожали Виктора убить.