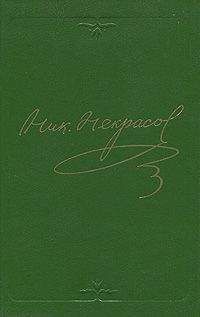Дверь скрипнула, и в комнате раздались звуки, подобные звукам кастаньет.
Я вздрогнул и поднял голову.
Серая фигура медленно шла в правый угол и, продолжая прищелкивать пальцем об палец и языком, с видом совершенной беспечности кивала мне головой.
Я молчал. Серая фигура прошла к своим нарам, села и, положив левую ногу на бедро правой, долго рассматривала сапог, говоря с расстановкой:
— Дратва скверная… ну да и ходьбы много… а толку хоть бы на грош… даже, кажется, мозоли натер… А что вы, то есть, здешние?
— Здешний.
— Тэк-с! А чья фамилия?
— Тростников.
— Знаю. Он меня бивал. С нашим барином, бывало, каждый день на охоту… промаха ли по зайцу дашь, собак опоздаешь со своры спустить — подскачет да так прямо с лошади. А заехал сюда — здесь и побывшился… поело смерти, говорят, сердяга и часу не жил!.. Поделом!.. Не дерись с чужими людьми. Естафий Фомич Тростников… как не знать. Задорный такой. От него, чай, и вам доставалось?
— Я не знаю никакого Тростникова, я сам Тростников.
— Тэк-с!.. Извинтите-с… а я думал, что и вы тоже господский человек… просто с глупости… Я три недели только еще из деревни… Не бывать бы и век здесь, кабы не молодая барыня… «Собаки и люди, — говорит, — душенька, нас разоряют; не ждите любви от меня, душенька, — говорит, — покуда будут у нас в доме собаки». Спорили, спорили, да наконец и вышло решение: собак перевешать, а нас распустить по оброку… фффить (дворовый человек засвистал), катай-валяй в разные города и селения Расейской империи от нижеписанного числа сроком на один год… Вот я сюда и махнул… водой на сомине… осьмнадцать дён плыли… всё пели… впеременку гребли… Да вот что станешь делать! — и сел здесь как рак на мели: нет как нет места! Проедаюсь на своих харчах, за кватеру плачу… сапоги новые истаскал; левый совсем худехонек.
Дворовый человек, отпущенный по оброку, зажег светильню, укрепленную в помадной банке, наполненной салом; вытащил хранившийся в изголовье небольшой деревянный ящик, вынул оттуда дратву, шило и молоток; снял сапог с левой ноги и принялся за работу, напевая что-то про барыню. Русский человек любит петь про барыню.
Через полчаса дверь опять отворилась; вошел с собачонкой в руках рослый плечистый мужик лет пятидесяти, одетый в дубленый полушубок, с мрачным выражением лица, с окладистой бородой. Взгляд его, походка, телодвижения — всё обличало в нем человека рассерженного или от природы сердитого. Он прошел прямо к своим нарам (вправо от двери), гневно бросил на них собачонку, которая тотчас начала выть; перекрестился на образок, висевший над нарами; сел, потянулся, зевнул; закричал на собаку: «Молчи, пришибу!» Потом хотел погладить ее, она оцарапала ему руку, соскочила с нар и начала скребстись в дверь. Бородач бросил ей кусок хлеба; она только понюхала; он начал кликать ее к себе, давая попеременно разные собачьи названия, уродливо исковерканные, при каждой кличке останавливался и пристально смотрел на собаку; но собака не унималась. Тогда бородач, выведенный из терпения, топнул ногой и с полчаса ругал собаку, решительно не соблюдая никакого приличия в выражении своего негодования. Наконец собака смолкла и забилась под нары. Бородач разлегся и принялся страшно зевать, приговаривая протяжно за каждым зевком: «Господи, помилуй! господи, по…ми…милуй!»
— Да денег дай! — сказал дворовый человек, отпущенный по оброку.
— Денег у черта просить, — проворчал сердито бородач. Разговор прекратился.
— А что, Кирьяныч, — сказал дворовый человек, отпущенный по оброку, — кабы этак тебе вдруг тысяч десять… а… что бы ты стал делать?
— Ну а ты что?
— Десять тысяч! Много десять тысяч. Опьешься! Нашему брату, дворовому человеку, коли сыт да пьян да глаза подбиты, и важно… хоть трава не расти! да еще целовальники бы в долг без отдачи верили.
— Ну а барин-от?
— Барин, что барин? Оброк отдал, да я и знать-то его не хочу… а и не отдал, бог с ним… Побьет, побьет, да на воз навьет… Десять тысяч! Горячо хватил — десять тысяч, Нечего попусту бобы разводить… четвертачок бы теперь-и то знатно… ух! как бы знатно! На полштофчика, разогнать грусть-тоску…
— Ку…а…а…а… Господи, пом…ми…луй… купи.
— Купи? Да где куплево-то? В одном кармане пусто, в другом нет ничего… Есть, правда, полтинничек… один, словно сиротинка, прижался, да ведь, знаешь сам, голова, надо и на харчи. С голоду умереть неохота. Иное дело, кабы место найти… А то вот и сегодня у пятерых попусту был… ну уж только и господа, с самого с испода! Один вышел худенькой, тощенькой… и на говядину не годится; в комнате три стула стоит, халатишко дыра на дыре… «У меня, милейший мой, — говорит, — главное дело, чтоб человек честен был, аккуратен, учлив, не пил бы, не воровал…» — «Зачем, — говорю, — воровать… хорошее ли дело воровать, сударь? дай господи своего не обозрить, кто чужому не рад. А много ли, — говорю, — жалованья изволите положить?» — «Пятнадцать рублев», — говорит. Меня инда злость пробрала… пятнадцать рублев! «Тэк-с», — говорю… (А туда же, «не пей, не воруй»… да что у тебя украсть-то, голь саратовская?) Шапку в охапку: «Много довольны… мы не из таких, чтобы грабить нагих»… поклон да и вон… К другому пришел… толстый, рожа лопнуть хочет, красная… «Мне самому, — говорит, — почитай что и человека не нужно… поутру фрак да водки подать, приду из должности — к кухмистеру сбегать, халат да водки подать, спать стану ложиться — сапоги снять да водки подать — вот и всё. Да вот, — говорит, — у меня, видишь?» — и показывает черта такого… человек не человек, черт не черт… глаза пялит, облизывается. «Я, братец, вот посмотри», — говорит, — и ну по комнате с пугалом прыгать, а оно ему на плечо… рожи строит, кукиш показывает… «Так уж любит меня, — говорит, — Будешь за ней хорошо ходить, будет и тебе хорошо; а захворает, убьется как-нибудь… и жалованья тебе ни гроша, да еще, — говорит, — и того: у меня частный знакомый и надзиратели приятели есть». — «Покорнейше благодарим, — говорю, — много довольны… за господами за всякими хаживал, а за чертями, нечего сказать, не случалось». — «Это, братец, не черт, — говорит, — аблизияна». Кирьяныч страшно зевнул.
— Эх ты, ежовая голова! Спишь, а деньги есть… Далась тебе даровщинка. Развязывай мошну-то. На том свете в лазарете сочтемся.
— Толкуй, — сказал Кирьяныч и, докончив фразу, как следовало, присовокупил со вздохом:- Согрешили мы, грешные; прогневили господа бога… совсем дело дрянь! На табак гроша нет… даве на щах останную гривну в харчевне проел… совсем в носу завалило…
— Табачку-свету нигде нету! — сказал дворовый человек горестно. И потом, после некоторого молчания, прибавил:- А и то сказать, какие у нашего брата деньги. Известно наше богатство: кошля не на что сшить — по миру ходить. Иное дело у барина.
Мне показалось, что камушек был закинут в мой огород, и догадка моя оправдалась: дворовый человек нечувствительно перешел к тому счастливому дню, когда он, полный надеждами, прибыл из деревни и до приискания места занял угол в подвале. День тот был в полной мере торжественный: на новоселье было выпито семь штофов.
— Ан пять! — сказал Кирьяныч.
— Семь, ежовая голова!
— Пять, едят то мухи с комарами! Я как теперь помыто, что пять! — И между ними завязался жаркий спор о количестве штофов.
— Ну да сколько бы ни было, — заключил дворовый человек. — Я к тому только сказал, что на Руси такое уж обнаковение: последнюю копейку ребром, а новоселье чтоб было справлено, иначе и счастья на новой квартире но будет.
— И господь того человека не забудет, кто должное исполняет, — заметил Кирьяныч.
— Послушай, брат, — сказал я.
Дворовый человек вскочил и почтительно вытянулся передо мною.
— Чего изволите, сударь?
— На вот, братец, — купите себе вина.
— Слушаю-с. Штоф, что ли, брать прикажете?
— Бери штоф.
Дворовый человек обмотал дратву вокруг недочиненного сапога, надел его на левую ногу, схватил мою фуражку и побежал. Через пять минут вино было на столе перед моею кроватью вместе с двумя селедками, пятком огурцов, тремя фунтами черного хлеба и четверкой нюхального табаку. Дворовый человек, отдавая мне сдачу, почтительно извинился, что сделал некоторые излишние издержки. Кирьяныч между тем сходил к хозяйке за стаканом.
— Начин с хозяина, — сказал дворовый человек наливая.
Я отказался.
— Бона! — воскликнул дворовый человек в каком-то странном испуге. — Гусь, и тот нынче пьет… И пословица говорит: ходи в кабак, кури табак, вино пей и нищих бей — прямо в царство немецкое попадешь! Что ж вы душе своей, что ли, добра не желаете?
— Да вы бы в самом деле протащили немножко, — прибавил флегматически Кирьяныч. — У вас лицо такое, словно обожженный кирпич.
Но я опять отказался.