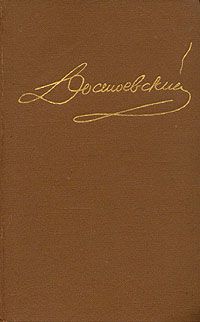«Очерки», к удивлению нашему (к удивлению потому, что почти все журналы наши решили бы иначе), оправдывают горохинцев. Если уж дана им была свобода, то уж они свободны были и школ не заводить. (Бедный, но благородный духом прогрессист-посредник и не догадался в своем доктринерстве, что горохинцы, лет через пять, смотря на соседей и на всеобщий пример, сами бы завели у себя школу, и, не догадавшись об этом, чтобы завести только школу, подрезал самый основной принцип, на котором всё зиждилось, который был источником всего дальнейшего и сохранение которого было дороже всех школ на свете). «Очерки» уверяют, что так было в прошлом столетии и в немецких государствах, когда там тоже начали заводить самодеятельность, и что горохинцы оказали даже при этом признаки здравого смысла. Господа доктринеры! положим, вы посредники, а мы, то есть общество, — горохинцы. Вот вы вызываете нас на самодеятельность. Что нам делать?
Ответ, по-нашему, ясен, и толковать нечего. Вот почему все ваши вызовы к самодеятельности нам и показались насмешкой.
Мы сейчас удивлялись, что «Очерки» решили в пользу горохинцев, и выразили наше убеждение, что все наши доктринеры и даже отъявленные краснейшие прогрессисты, может быть решили бы иначе, а если б не решили, то должны были бы решить иначе, чтоб быть верными своим принципам. Не удивляйтесь нашему удивлению; мы вовсе не преувеличиваем. Но это бы еще ничего. А теперь вот начинаются даже признаки какого-то желания зла нашему мужику, какого-то отмщения ему за то, что до сих пор все так за него стояли и так за него распинались. Проглядывает даже ненависть. Это мы особенно заметили в новом органе, в газете «Русский листок». Это самый куражливый из всех новых органов, хотя, впрочем, в нравственном смысле, «Русский листок» из того же стада курица; хоть и силящаяся пропеть петухом курица, но все-таки тоже простая, обыкновенная, паническая курица. О мужике мы прочли в статьях г-на Скарятина. Оговоримся: мы не думаем, чтоб г-н Скарятин увлекался каким-нибудь пошлым плантаторским мщением. Мы толкуем его чувства иначе. Нам просто кажется, что ему надоела рутина сочувствия мужику. Бездарность, с которою иногда доводится до последней нелепейшей крайности прогрессивная мысль, у нас неудивительна. Мало того, эти бездарные до того долго волочат иногда по улице, грязнят и марают иногда самую святую идею, что повторять за ними общие либеральные и прогрессивные фразы иногда даже претит. Таким-то образом, полагаем мы, были оскорблены и эстетические чувства г-на Скарятина. Но все-таки это не дает ему права плевать на логику. Логика не рутина и не рутинный прогрессизм. Долго толковать о г-не Скарятине нечего, но на выдержку, как вам кажется, например, следующий афоризм его:
«В глазах многих достаточно быть крестьянином, чтобы быть правым, и помещиком, чтобы быть виноватым, тогда как известно, что наш крестьянин не только не лучше помещика, но, напротив, хуже его, потому что необразованнее, и если справедливо, что помещики нередко нарушали права крестьян, то еще справедливее и то, что крестьянин не упустит случая запустить лапу в чужое, если может сделать это безнаказанно».
(«Русский листок», № 1)
Что же это такое? Представлены на суд помещик и крестьянин. Хорошо. Вопрос, кто из них лучше? Г-н Скарятин уверяет, что помещик, потому что он образованнее. Ну положим, без спору, что и это хорошо. Что ж дальше? Дальше говорится: если справедливо, что помещик нарушал нередко права крестьянина, то и крестьянин не упустит случая запустить лапу в чужое добро.
То есть: если крестьянин запускает лапу в чужое добро, то не отрицается и то, что помещик нарушал права крестьянина, то есть брал себе у крестьянина то, что принадлежало крестьянину, а следовательно, тоже запускал лапу в чужое добро.
Итак, оба они, и помещик, и крестьянин (по г-ну Скарятину) запускали лапу в чужое добро. Но помещик лучше крестьянина, потому что он образованнее.
Помилуйте, г-н Скарятин! Что же, как же вы после этого понимаете образованность? За модный фрак или за бритье бороды? По-нашему, уж если человек образован, то он получил нравственное развитие, по возможности правильное понятие о зле и добре. Следственно, он, так сказать, нравственно вооружен против зла своим образованием, а следственно, владеет для отражения зла средствами несравненно сильнейшими, чем крестьянин (мы уже не говорим про то, что помещик во всяком случае материально обеспеченнее крестьянина; что он реже голодает, чем крестьянин, и разве только проиграется в картишки, но уж никогда не ведет на базар последнюю кобыленку, с тем, чтоб продав ее, заплатить оброк или подати).
А если так, если иной помещик нравственно и физически гораздо обеспеченнее от зла и порока, чем крестьянин, и если, несмотря на всё это, он попадается в одном и том же преступлении, как и крестьянин, то есть запускает лапу свою в чужое добро, то во имя справедливости и логики: кто из них нравственнее, кто из них лучше?
Согласитесь сами, что вину крестьянина облегчает еще сколько-нибудь его невежество и необразованность.
Воля ваша, г-н Скарятин: вы так сами поставили вопрос и подвели на него ответ, что обвинить непременно должно помещика. Непременно должно выйти так: он хуже крестьянина, потому что, будучи образованнее и материально обеспеченнее, сделал такое же преступление, как и крестьянин.
Это по-вашему, по-вашему же так выходит, г-н Скарятин! А между прочим, вы решаете иначе. Это уже скандал, а не логика!
Чего же после того лезть в учители, когда и свою-то собственную мысль прилично изложить не умеете.
В сороковом номере газеты «Очерки» было напечатано о нас следующее постороннее письмо, присланное одним посторонним лицом в вышеупомянутую газету.
Г-н Редактор!
Надеюсь, что вы дадите место моей заметке в вашей газете. Цель ее — уличить редакцию «Времени» в явной недобросовестности и непоследовательности и отметить характеристическую черту для будущего историка русской литературы и журналистики.
В январской книжке этого года редакция «Времени» по поводу объяснений своих в нападении, произведенном на свистунов в объявлении об издании журнала на 1863 год, выгораживает, между прочим, из числа этих злокозненных людей покойного Добролюбова, признавая его за человека, «глубоко убежденного, проникнутого святою, праведной мыслью, за великого бойца за правду». Далее редакция почтенного журнала говорит, что по силе и значению в литературе Добролюбов был бог, и восхваляет себя за борьбу с ним против неуважения его к народу и неверия в его силы.
Справедливость последнего подлежит суду критики; что касается до первого, то во имя уважения к памяти покойного следует остановить г-на редактора «Времени» и указать ему на руководящую статью его журнала, помещенную в № 3 прошлого года, — вскоре после смерти Добролюбова.
Голос «Времени» прозвучал не без резкости и резюмировался окончательно в мнении о Добролюбове таким образом на стр. 32: «Мы чувствуем желание взглянуть свысока на Добролюбова, потому что находим у него очевидные недостатки, промахи всякого рода, мысли неточные, недодуманные, мелкие, фальшивые, вопиющие противоречия и плоскости; концы, вовсе не идущие к началу, начала, не доведенные до конца, и т. д. Этих ошибок, этих примеров всякого рода путаницы и бессвязицы можно было набрать столько, сколько угодно» и т. д.
Пусть редакция «Времени» сравнит сама это прежнее свое мнение с новейшим и объяснит, путем какой логики и какого чувства пришла она к мнению о покойном как о человеке, проникнутом святою, праведной мыслью, как о великом бойце за правду?
Примите, и проч.
Свистун.
Вот наш ответ:
Господин Свистун!
Мы решились вам отвечать, хотя ваше письмо адресовано не к нам, а редактору «Очерков». Но так как дело касается лично до нас и в вашем письме говорится только об нас, то вы, конечно, и не удивитесь, что мы берем на себя приятную обязанность отвечать на это письмо. Решились же мы вам отвечать по трем нижеследующим причинам:
Причина первая: По тону вашего письма в газету «Очерки» мы убедились, что вы, милостивый государь, человек совершенно посторонний, то есть что вы не принадлежите к раздраженным против нас лично редакторам и издателям и, кроме того, что вы браните нас не из каких-нибудь выгод. Извините нас за эту откровенность; но вы имени вашего не подписали, а на нас столько пишется ежедневно ругательств, столько гаденьких пошлостей, что мы невольно принуждены быть подозрительными и различать между нашими оппонентами. Иным отвечать — так слишком уж много им чести будет. В вашем же письме мы не видим никаких намеков, никаких посторонних затаенностей. Вы прямо заботитесь о деле и добиваетесь решения противуречия, поразившего вас в нашем журнале. Вы, видимо, тоскуете и беспокоитесь и, несмотря на все старания и напряжения ваши, вы все-таки не в состоянии своими собственными средствами разрешить вопрос. Мы искренно спешим вам на помощь, — вам, человеку благородному (потому что вы заботитесь о правде), человеку добрейшему (это видно) и, наконец, человеку, бескорыстно питающему благородную любовь к отечественной словесности (это уже очевидно).