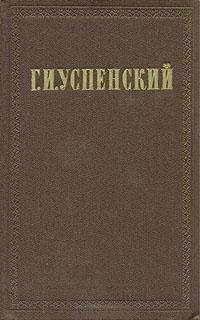-
Во время поездки по Западной Сибири мне пришлось слышать и еще об одном "радетеле" на благо простого серого человека, и хотя он также не понимает блага без его реального осуществления, но его история показывает, до какой степени времена сузили, со дней жития Родиона, размеры этого радения и его сущность.
В г. Т<обольске> мне целый день пришлось ждать тюменского парохода. Всяких разговоров и всяких сибирских типов пришлось переслушать и перевидать множество. Между прочим, памятен мне разговор одного священника с одним городским жителем. Священник был человек развязного обращения и полагал, должно быть, что раз он не при исполнении своих обязанностей, то может позволить себе при всей публике почесаться огромной рукой так, что зрители непременно посоветуют ему идти в баню. Огромный, хорошо закусивший, хохочущий и не стесняющийся в жестах батя разговаривал таким развязным тоном, каким в пору разговаривать хорошему торговцу на базаре.
— Ну, а что этот — "кляуза"? — грубо и громко спросил он у молодого человека.
— Кто такой?
— Да расстрига-то?
— А, N-в!.. Ничего…
— Все мудрит-мутит?
Неохотно ответил ему молодой человек:
— Все попрежнему.
— Не покоряется? Который раз с него рясу-то в участке снимают?
— Да уж раза три, кажется…
— И все прет в церковь? Все попом себя почитает еще?
— Действительно, не признает расстрижения… Прямо из участка, в сером пиджаке, вошел в церковь, в алтарь, облачился и стал служить вторым…
— Так чего же его по шее не огреют?
— Ну, вот! По шее!
— И прямо по шее! Чего тут?
— Ну уж, право, не знаю…
Скоро священник уехал на другой берег реки, на большой лодке, мягко застланной соломой и ковром. Он растянулся, как турецкий султан обыкновенно "растягивается" на лубочных картинах. С ним сели и два здоровенных же, хорошо закусивших сына; один из них был в фуражке какого-то министерства. Этот юнец, едва появился на пароходной пристани, без всякой церемонии подошел ко мне, сказал: "Позвольте папироску!" — и ни с того ни с сего заговорил о своих семейных делах, точно я был век с ним знаком. "…А старшая сестра, Мария, за становым… У нас рука есть… большой богач". Обжорною жадностью плотоядных существ отдавало от этих верзильных и грубых людей, и я рад был, что их унесло куда-то. Рад был и молодой человек, которого донимал разговором грубый собеседник.
Мы заговорили друг с другом, и я спросил его о том "расстриге", о котором только что шел разговор.
— Это замечательная личность!
— Может быть, известный наш недуг… пьянство погубило его? — спросил я, так как разговор шел о нем как о забулдыге.
— О нет! Он не пьет ни капли! Это умный, энергический, живой человек… даже писатель! У него выпущено в свет очень много брошюр, книжек…
— О чем же он пишет?
— Исключительно для народа, и главным образом хозяйственные. Вообще, это человек до крайности деятельный.
— Однако вот, что-то с ним случилось?
— Да, случилось! И очень все вышло нелепо. Дело началось с пустяков… Не довольствуясь книгами, стал он в своем приходе вводить разные хозяйственные нововведения: образчики хороших семян, разведение таких растений, которых нет в Сибири, но которые могут в ней произрастать… Словом, много работал в смысле улучшения хозяйства. Но, может быть, у него мало было земли или он просто увлекся своим делом и не обратил внимания на народное невежество, только плантации его вышли из пределов собственно его двора: весь его огород был уже разработан, и он, не думая сделать худого, разгородил его и пошел дальше, разводя разные растения на том лоскутке земли, который был между его домом и церковью, и добрался до самого алтаря, да с чем? С табаком! Народ возопиял, а невежество народа возмутило священника. Мог ли, в самом деле, такой человек уступать такой непомерной тьме? Но и мужики не уступили, пожаловались. Потребовали N-ва, внушили, приказали не раздражать народ. Пустяки, кажется? Но для N-ва это были никак не пустяки. Именно на этом пустяке он должен был признать преимущество невежества и тьмы, покориться чепухе мужицкой! А он вообще образованный, начитанный человек, именно образованный! Ко всему этому, он еще и нервный, впечатлительный, горячий, ни за что не хотел исполнить того, что ему приказывали. Я думаю, он даже не мог бы пойти на такой компромисс, чтобы разводить табак в другом месте. Ведь дело в том, чтобы не преклоняться пред невежеством, голою глупостью; он и не преклонился. А затем не мог уже избежать кары за неповиновение… И пошло: перевели в отдаленнейший приход — не поехал, протестовал… Дальше — больше… Взяло его за живое, и ринулся он в непрерывную борьбу… Ни семейное расстройство, ни недостаток, ничто его не остановило; по мере того как дело перешло совсем на иную почву и разыгрывалось уже не в деревне, а в судах, в канцеляриях, он ни на одну секунду не усомнился в том, что считал справедливым; он пробирался с своим протестом в Петербург, в высшие места, и таким образом дошел до "извержения из сана".
— Но и этого не признает?
— Да! До сих пор считает себя священником… Недавно раздевали третий раз в участке, а теперь он опять в рясе. Замечательный человек, а измается, погибнет. И теперь он не перестает протестовать, и так же настойчиво… Книжки его покупаются охотно, вот единственное его средство. Прошел слух, что он хочет уйти в раскол… Но не знаю, верно ли это?
Кстати сказать, этот же молодой человек рассказал мне про другого местного протоиерея Л-ва, недавно умершего в Самаре и перешедшего за несколько лет до смерти в раскол. Об этой замечательной личности будет сказано особо, в одном из следующих очерков.[1] Общественная деятельность этого образованного священника происходила не в той среде, о которой идет у нас речь. Я говорю теперь только о "радетелях" в среде нашей темной крестьянской массы и поэтому опять возвращаюсь к разговору об г. N-ве, также желавшем быть радетелем в темной крестьянской среде.
Так же, как Родион, как о. Стефан, и священник N-в не смог сберечь для собственного "удовольствия" своих знаний и своего понимания о недостатках и горестях "темного народа" и сейчас же отдал их этим самым темным массам, нескладная, бестолковая жизнь которых и возмутила его. Этот тип, наиболее яркий образец которого в нашем рассказе представляет Родион, постоянно приметен в нашем обществе в настоящее время. Наши учителя и учительницы в огромном количестве делали свое дело подвижнически, не ремесленным образом и не из-за хлеба, не из-за хлеба только работали и работают врачи, фельдшера, акушерки. Но не знаю, скажут ли они сами, что деятельность их может быть оживотворена сознанием связи ее с подъемом и просветлением личности, духовной жизни крестьянина.
Заглянем, для проверки разницы, опять в те глухие места, где действовал когда-то Родион.
В этих местах теперь считается ревизских душ 2589, тогда как наличных уже 6600 душ. Крестьяне живут преимущественно земледелием, а в зимнее время, кроме того, небольшая часть населения занимается кустарным промыслом, делает сани, коробья, берестяные бураки, тележные колеса. Промысел этот поддерживает как при отбывании казенных повинностей, так и в хозяйственных расходах; причина весьма незавидного положения крестьян — малоземелие, неимение лесов, вследствие чего они арендуют очень много земли в соседних помещичьих дачах, уплачивая за арендованные земли, отпуск леса и выгон много денег. Положение родионовских потомков, как видите, изобилует несравненно большим количеством скорбей, чем было их у прародителей, но зато и радетелей у теперешних потомков Родиона почти такое же количество, как и самых скорбей; то, что у них земли нет, это самым подробным образом исследовано и занесено в статистический сборник; то, что при тесноте пространства и утроившегося количества жителей могут в село прийти опять те самые два изувера, один красно-огненный, а другой черный и между ними "четвероногое", это также не составляет тайны для образованного общества, и как только явится четвероногое, так явится и ветеринар; как только начнется эпидемия красно-огненного или черного качества, так явится и врач; священник будет хоронить мертвых и крестить живых; староста будет собирать подать; воров и пьяниц берут кутузка и суд; истощают и развращают народ кабатчик и кулак, и так далее. Несмотря на такое количество радетелей, никаких явно осязаемых результатов, которые бы доказали, что родионовский потомок в чем бы то ни было превзошел своих предков, пока, кажется, не видать. Все радетели и сами по себе изнурены и истомлены одиночеством однообразнейшего труда, а те, о которых радеют, не только не дожили до расширения своих духовных потребностей, до бережения своей души, но как бы и думать-то об этой роскоши перестали. С их личной совести снята всякая ответственность за общественное зло, тогда как радетель Родион прямо соединял общественное зло — красно-огненную и черную болезнь и все беды и язвы, изъедавшие народ, — с личными грехами и пороками этого народа: "питие табаку", "пиянство", то есть всякие личные неопрятности он умел отразить в общественных бедствиях деревни, привести в связь личную опрятность или неопрятность с проявлением того и другого в обществе. Способ радения нашего времени снимает с нашей совести ответ решительно за все то зло, которое творится кругом нас. Кражи, самоубийства, всякого рода несчастия, о которых мы читаем ежедневно в газетах, не касаются нас, читателей, ни в каком отношении. "Дознание производится" — и конец делу, и следа не остается от кровавой драмы или от ужаснейшего несчастия.