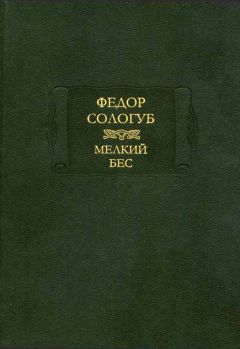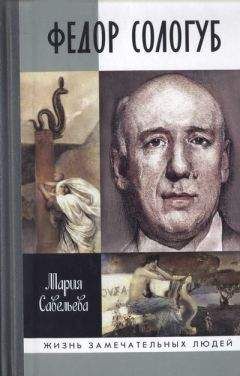Катя закрыла глаза и откинулась на спинку стула. Гимназист, близко наклонясь к ней, продекламировал страстным полушепотом:
Отодвинул я завесы плотные, —
Запечатана тайная дверь.
Беззаботные, безотчетные, —
Отчего не теперь?
Облелеял бы лаской блуждающей
Я твою заповедную дверь…
Утомляющей, утоляющей, —
О, не бойся, поверь!
Кошурин кончил. Катя сидела с закрытыми глазами и словно ждала еще чего-то. Наконец она открыла глаза. В них было блудливое и желающее выражение.
— Все? — спросила она очень тихо.
— Все. Поняли?
— Может быть. Только…
— Что только?
— Положим верю, — а дальше что?
— Дальше после, — ответил гимназист, радостно улыбаясь.
Катя отошла от него.
— Что, — спросил Женя, подходя к Кошурину, — у тебя, кажется, была интересная беседа с Катей Ваулиной?
— Да, — дурочка, такая боязливая, не может понять, что можно и невинность соблюсти, и…
— Капитал приобрести? — поспешил досказать Женя.
— Ну, капитал не капитал, а насладиться во все свое удовольствие. Впрочем, я, кажется, обратил ее в свою веру стихами. Хочешь, прочту тебе?
— Прочти.
Кошурин повторил свое произведение.
— Понял? — спросил он, окончив чтение.
Женя захохотал.
— Она-то поняла? — спросил он.
— На то похоже. Но, — само собой, об этом никому ни гугу.
— Разумеется.
I
Владимир Гарволин жил со своею матерью недалеко от Самсоновых. Он с детства водил дружбу с Шаней и частенько катал ее на салазках с той горки, что стояла в Самсоновском парке. Давно уже обольстила его сердце пленительно-веселая девочка, но, застенчивый и неловкий, он не умел выразить своего чувства и казался грубым и суровым. По праву старой детской дружбы он говорил Шане ты, Шаня была с ним доверчива, Шаня любила поболтать с ним о своем милом Женечке, — жестокая Шаня! И чем больнее бичевала Шаня Володино сердце речами о Хмарове, тем милее и дороже становилась она для него, — радостная, недостижимая.
А дома была у Гарволина грусть. Неонила Петровна, его мать, вдова здешнего чиновника, получала небольшую пенсию, давала за ничтожную плату уроки девочкам, которые ходили к ней готовиться в гимназию, а по вечерам отправлялась читать романы престарелой, полуглухой барыне, которая платила ей скудно и неаккуратно, задерживала ее почти каждый раз до поздней ночи, нестерпимо капризничала да и считала себя благодетельницей, потому что иногда приглашала Неонилу Петровну с Володей обедать.
В последнее время Володя тяготился этими обедами и раза два пробовал увернуться от них. Но это было неудобно: капризная старуха жестоко обижалась, что пренебрегают ее приглашениями, и не хотела слушать никаких резонов. Ей нравилось видеть Володю, — он был застенчив и неловок, и она за обедом всласть шпыняла его благожелательными наставлениями.
— Для твоей же пользы, батюшка, — приговаривала она, — мальчик ты хороший, а в жизни и полировка нужна. Неотесанным дубиной только тын подпирать.
Хоть очень неприятны Володе были эти обеды, но приходилось-таки ходить: мать просила, — а то еще место потеряет.
Нелегко достаются деньги, трудна жизнь. Утро до трех часов уходило на занятия с девочками. В это же время надо было готовить обед: постоянную прислугу держать было не на что, а ходила находом баба, мещанка, которая жила недалеко. Эта баба придет утром, натаскает дров, наносит воды, приберет кой-что и уходит до следующего утра; в назначенные дни придет вымыть полы, выстирать белье. Девочки уйдут, — еще много дома заботы и работы; сшить, починить, заштопать. Придет вечер — надо идти на другой край города, добывать гроши чтением. Каждый день, во всякую погоду, в дождь, в снежную метель, в морозы тащиться в стареньком пальтишке, которое плохо греет стареющее тело, — это было трудно.
Неонила Петровна была женщина болезненная, нервная. Девочки раздражали ее, но с ними надо было ладить. Надо было приноравливаться и к капризам богатой старухи. У Неонилы Петровны болела грудь, она все чаще и чаще кашляла, все более и более высыхала и сморщивалась. К сорока пяти годам она казалась уже совсем старухой. Чтение сильно утомляло ее, но его нельзя было оставлять: деньги нужны.
Когда Володя подрос, он стал искать для себя какой-нибудь работы, каких-нибудь уроков, — все это оплачивалось дешево, и денег с трудом хватало. Володя подумывал бросить гимназию, идти в чиновники, — мать не соглашалась.
— Дотяни как-нибудь, — без диплома век нищим будешь.
Был у Володи в Сызрани дядя, брат его покойного отца, но тому помогать было не из чего: он служил в казначействе на маленьком жалованьи и имел полдюжины детей, которым иногда не на что было и башмаков купить.
Бывало вечером Неонила Петровна собирается идти к своей старухе, одевается, укутывается в какие-то тряпки и кашляет, мучительно кашляет.
— Ты бы, мама, сегодня дома посидела, — говорит Володя, помогая ей одеваться, — слышишь, ветер так и воет, — еще больше простудишься.
— А вот закутаюсь хорошенько, и ничего мне не будет.
— Хоть бы один вечер отдохнула.
— Я отдыхать буду, а деньги сами к нам придут! — раздражительно говорит Неонила Петровна.
— Проживем как-нибудь, мама, — побереги здоровье.
— Раз умирать надо!
У Володи сжимается сердце, когда мама говорит о смерти. Он принимается мечтать, как он кончит курс в университете, получит хорошее место и успокоит маму, — усиленно старается представить себе подробности будущего житья-бытья, а в мозгу настоятельно повторяется: «Не дотянет, умрет».
Мать кашляет мучительно и покорно говорит:
— Видно, помирать пора.
Володино сердце мучительно ноет.
«Как же другие живут?» — спрашивает он себя и представляет себе людей богатых, и бедных, и счастливых, и обездоленных… Старухи, хилые, бесприютные, надорвавшиеся в непосильной работе. Но жалость к одной из этих старух, близкой, милой, перевешивает в его сердце слабую, надуманную для утешения жалость к миллионам еще более несчастных существ.
II
В воскресенье у обедни Мария Николаевна встретила Неонилу Петровну с Володей и зазвала их к себе обедать.
— Вот, снимались у приезжего фотографа, — рассказывала дома Марья Николаевна, — Шанька, подари, что ль, Володеньке свой портрет.
Шаня побежала к себе; за нею пошел и Володя.
— Слушай, Шаня, — угрюмо заговорил он, когда они остались одни в ее комнате, — ты думаешь, Хмаров на тебе когда-нибудь женится?
Шаня покраснела и от раскрытого еще комода, где она искала свои карточки, повернулась к Володе.
— С чего ты это? — спросила она. — Да я и не думаю. Что я за невеста? Я еще в куклы играю.
И она весело засмеялась и опять принялась шарить в комоде, торопясь и не находя.
— Ну, положим, думать-то ты думаешь! — сказал Гарволин. — А только напрасно: маменька ему не позволит.
— Да тебе-то что за печаль? — рассердилась Шаня. — Выискался какой!
— Тебя жалко: обманет он тебя.
— Он — честный! — запальчиво крикнула Шаня.
Она нашла свои карточки и держала их, не вынимая из конверта, гневно сверкая на Володю черными глазами.
— Ну, честный насчет другого чего, может быть, — угрюмо сказал Володя, — а на эти дела все они… Скажет: маменька не велит.
— Неправда! Ты — злой, злючка, ты со злости так говоришь, а сам знаешь, что неправда. Он — честный, он никогда не обманет, он милый, хороший!
Шаня притопывала ногами и щеки ее пышно рдели. Володя вздохнул.
— Ну, давай тебе Бог. Только все ж держи ухо востро.
— И слушать не хочу, и молчи, пожалуйста. И никогда вперед не смей так говорить. На вот лучше карточку, хоть и не стоишь ты за такие слова. Самую хорошую тебе выбрала.
— Эх, Шанечка!
Шаня призадумалась на минутку и вдруг весело и лукаво улыбнулась.
— Слушай-ка ты лучше, что я тебе скажу, — сказала она Володе. — Скажи мне, синий или красный? Ну, живей.
— Ну, что такое? — с удивлением спросил Гарволин.
— Скорей, скорей! — торопила Шаня. — Я задумала кое-что. Ну говори же, синий или красный.
— Красный! — угрюмо сказал Володя. — Чепуха какая-нибудь.
Шаня звонко и радостно засмеялась.
— Не обманет, не обманет! — закричала она, прыгая и хлопая в ладоши. — Знаешь, что я сейчас загадала?
— Ну?
— Если синий, так он меня бросит, если красный — не бросит. Ну что, чья выходит правда? Вот видишь, какой ты злой. Видишь, вышло, что не бросит, а ты на него врешь такие вещи.
— Эх ты, стрекоза! — уныло сказал Володя. — Задаст он тебе такого красного!
— Слушай, Володя, — заговорила вдруг Шаня, лукаво улыбаясь и заглядывая ему в глаза, — ведь ты все это из ревности?