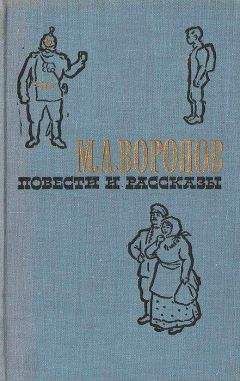После французского урока следовало черчение, и учитель чистописания, черчения и рисования вместе, какой-то вольный, следовательно не нуждавшийся в образовании художник, вбивал линейкой из красного дерева общие понятия об архитектуре вообще и о капителях, базисах, колоннах, карнизах и фризах в особенности. Директор недаром предупреждал меня, что он строг: действительно, удары сыпались то и дело без всякого разбора по рукам, спине, плечам, голове и проч. Передо мной он положил какой-то базис, с которого я должен был копировать. Я действительно скопировал, но такую штуку, пред которою побледнели все подобные произведения моих товарищей: вместо базиса я изобразил корову, для красоты прибавив внизу масштаб, которым можно было бы измерить ее.
После черчения классы окончились. Вместе с братом я пошел домой пешком. Дорогой я перечитал несколько раз расписание классов, по которому оказывалось, что предметов у нас восемь и между ними я знал только четыре: закон божий, арифметику, грамматику и чистописание, к которому примыкали уже несколько мне известное черчение и совершенно неизвестное рисование, составляя вместе предмет свободных художеств; об остальных я не имел ровно никакого понятия.
В следующие дни я аккуратно посещал классы и в неделю совершенно ознакомился с гимназией.
Из учителей мне особенно нравились учителя закона божия и географии. Священник, учитель закона божия, был кроткий, добродушный и весьма серьезный человек; он не употреблял никаких наказаний для ленивых и шалунов, но всегда старался действовать на них добрым и ласковым словом. И действительно, эта мера была самая лучшая: учились все у него превосходно, а вели себя совершенно безукоризненно. Учитель географии, напротив, не обращал ровно никакого внимания на знания и поведение своих учеников: он видел, что в нем слишком мало сил и уменья к тому, чтобы переделывать таких испорченных детей, хотя, нужно заметить, порча в нас была только кажущаяся ему и его товарищам, в действительности же все безобразия со стороны учеников были вызваны поступками их наставников, и истинно образованный человек никогда бы не стал в тупик перед подобными препятствиями, видя, что исправление их находится в его воле. Но мы искренне любили учителя уже за одно то, что он избавлял нас от всевозможных наказаний, отеческих и официальных.
Не могу вспомнить без ужаса об учителе латинского языка, который, к счастью, учил нас две-три недели. Это был именно тот господин с сивушным запахом, о котором я уже сказал прежде, при моем вступительном экзамене. В мое время поговаривали, что это был умнейший человек во всем педагогическом совете нашей гимназии, но мне не случилось заметить в нем особенного ума, хотя, должен признаться, выкидываемые им штуки могли прийти только в гениальную голову. Вот пример:
Между моими товарищами особенно жалкую роль играл рябой мальчик, лет пятнадцати, сын какого-то бедного офицера: мальчика все били, марали мелом, рвали его платье, — одним словом, это было жалчайшее существо, каких только случалось мне когда-нибудь видеть. В угнетении бедняги и учителя не отставали от учеников: изящный учитель арифметики, например, подшучивал над его безобразием, советуя почаще умывать руки и лицо, и называл его не иначе как «замарашкой», «мужичком, взятым из-под сохи» и проч. (этот учитель был большой острослов!); учитель грамматики входил в класс не иначе, как поставив ненавистного ему ученика в угол носом или выгнав из класса. «Хари его видеть не могу!» — говорил он, морщась; надзиратель Макар бил его собственными руками и ставил на колени на несколько часов; инспектор то и дело сек, — одним словом, бедняку не было житья ни от кого… Но учитель латинского языка превзошел всех… Преспокойно расхаживая по классу, он вдруг с каким-то остервенением бросался к доске, хватал тряпку, которою стирали мел (губки тогда еще не вошли в моду и употреблялись только во время ревизий), и бросал ее в сильно не нравившееся ему лицо ученика; потом топал ногами, кричал, бесновался, давая этим знать, чтобы он вышел из класса. Раз как-то вздумалось этому учителю спросить у мальчика урок, которого тот, разумеется, не знал, потому что его никогда до сих пор не спрашивали, знает он или нет свой урок.
— Поди сюда! — заревел учитель.
Ученик подошел.
— Подставь морду, воронье пугало! — продолжал учитель.
Мальчик, не подозревая ничего, повиновался.
— Тьфу ты, поганая харя! — И латинский учитель наплевал в лицо бедняку.
Мы, разумеется, только надсмеялись над такой выходкой учителя, хотя каждый из нас мог рассчитывать на подобный сюрприз. К счастью, приехал новый наставник латинского языка, немец, педант. Новый учитель имел какой-то свой метод преподавания, по которому, например, латинские склонения, написанные четырехстопным ямбом, не говорились, а пелись. Учитель этот сначала было силился написать стихами всю грамматику (за что, разумеется, получил бы полную демидовскую премию)[8], но стал поигрывать в картишки, женился и, кроме следующего двустишия:
Piget, pudet, poenitet,
Taedet atgue miseret[9], —
ничего не выдумал больше. Спряжения глаголов выучивались при нем всегда вразбивку, то есть по видам, и тут-то представлялся полный простор рьяной деятельности учителя латыни!.. Он обыкновенно становился на средину класса, провозглашал какой-нибудь глагол в неопределенном наклонении, потом быстро называл наклонение, время, число и лицо, требуя тотчас выразить заданный глагол в предложенной форме. Все это делалось необыкновенно скоро, и, разумеется, никто не мог ответить вдруг; тогда учитель перебегал от одного ученика к другому, от другого к третьему и т. д., до тех пор, пока не получал удовлетворительного ответа. Это была, так сказать, игра на фортепьяно, потому что ученики поднимались и опускались один за другим, как фортепьянные клавиши, издавая в то же время различные тоны, из соединения которых учитель мог сочинять, что ему угодно. Иногда он вытягивал целую дискантовую или альтовую гамму, в которой ухо слышало даже гармонию; иногда, напротив, среди дискантовых и альтовых нот ревел баритон или даже бас, — вообще латинские классы шли весело: ученики были довольны, учитель блаженствовал (много ли нужно немцу?..). Как человек свежий и молодой, учитель латыни мало поддавался господствовавшим тогда между его товарищами привычкам и обыкновениям вроде щелчков, оплеух, зуботычин и проч. Тем же достоинством отличался и учитель немецкого языка, за которого, впрочем, всегда расправлялся инспектор, потому что немец ему сообщал фамилии ленивых и безнравственных мальчиков. Немецкий учитель был большой флегматик, и энергии у него недоставало даже на то, чтобы плюнуть в неприятное ему лицо ученика (он плевал на пол). Это был тип колониста, провонявшего дымом плохих сигар и постоянно жевавшего табак для предостережения от цинготной болезни, а может быть и из других видов. В преподавании он ограничивался короткими возгласами «от сих и до сих», изредка прибавляя: «И все старое повторить», — после чего, разумеется, инспектор получал целый список ленивых и безнравственных. Звали его, как большую часть немцев, Карлом; любил он, как большая часть немцев, сигары и колбасу, пил, как большая часть немцев, пиво; вот до поры до времени и все о нем.
По возвращении из классов отец постояннно засаживал нас учить уроки, что продолжалось целый вечер, так что редко-редко случалось играть на дворе или в комнате с братьями и сестрами. Пользуясь отсутствием отца, мы иногда убегали на задний двор, где предавались различным забавам и играм: дразнили собак, били каменьями стекла в старой прачечной, обливали друг друга с ног до головы водою или плевали в негодный, запущенный колодезь, с удовольствием выслушивая отдаленный звук падавшей в воду слюны. Вообще, действуя в подобных случаях тайно и, следовательно, предоставленные самим себе, мы часто выделывали такие штуки, за которые журила нас даже няня, позволявшая обыкновенно нам очень многое. Но главная наша забава состояла в ловле свиней, в которой мы, впрочем, только помогали нашему кучеру, Сергеичу. Дело было в таком роде.
Так как казенного хлеба было вдоволь, то отец рассудил обзавестись тройкой свиней, одной мужского пола и парой женского. Свиньи жили в сарае, около конюшни, откуда выпускали их раз в сутки погулять. Надзор за прогулкой свиней был вверен кучеру Сергеичу, которому, кроме того, строго было приказано не пускать их на огороды, где они могли бы принести большой вред посеянным овощам. Но, как нарочно, каждый раз нечистые животные убегали уже против воли своего гувернера и принимались с яростью взрывать гряды. Бедный Сергеич, не имея сил обратно вогнать их в сарай, придумал следующее простое, но весьма верное средство: он брал багор и бежал с ним на огород, где, нагнавши одну из беглянок, вонзал крюк в ее тело и с страшными проклятиями оттаскивал жертву в сарай, за ней другую, потом точно так же и третью. Но так как история эта повторялась каждый день, а Сергеич был человек ветхий, то, наконец, совершенно выбившись из сил, он попросил нас помогать ему в этом деле, на что мы, разумеется, согласились с великою радостью.