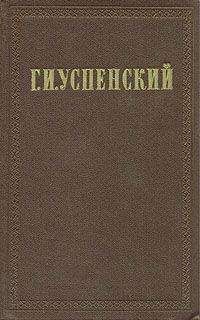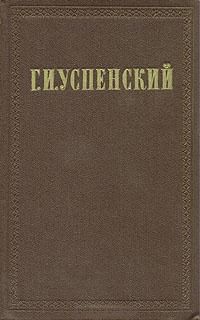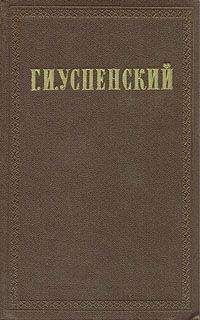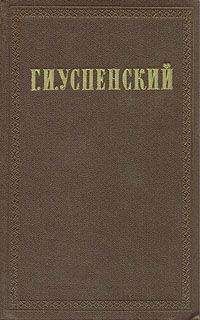Привыкнув дежурить чуть не каждый день, Семен Матвеич счел удобным переселиться совсем в палату; с этою целию в пустую чертежную комнату перетащились его сундук и шкаф; в углу поместилось множество образов с лампадами в черных, закопченных киотах; спал он на столе, подложив под голову книгу о входящих и исходящих, и одевался шинелью, все более и более превращавшеюся в лохмотья. В эту пору он не заботился об одежде и вообще о каких бы то ни было расходах на свою персону, так как чувствовал прилив величайшей скупости и скопидомства, которое заставляло его вести войну со сторожем, претендовавшим на оставшиеся сальные огарки или разорванные конверты. Огарки эти, после продолжительной схватки со сторожем, оставались в руках Семена Матвеича и помещались в огромном лубочном ящике из-под сальных свечей, стоявшем под столом и заключавшем в себе самое разнообразное содержание: старые голенища, пуговицы, клубки ниток, ремешки, веревки, гвозди, оторванные подошвы, сломанные и залитые салом медные подсвечники, галуны и проч. и проч. Сургучные печати Семен Матвеич аккуратно вырезывал из отбитых у сторожа пакетов и, перетопив их в печи, уступал регистратору, то есть журналисту, занимавшемуся запечатыванием конвертов, который вследствие этого снюхался с казначеем и делил с ним пополам сумму, назначенную на покупку нового сургуча.
Никто поселившегося здесь Семена Матвеича не смел пальцем тронуть: брат секретарем, остальная братия в руках, старичок управляющий до этого дела не доходил.
Поэтому понятно, что новый начальник, остановившись в дверях чертежной, впал в некоторое изумление: перед ним вместо комнаты присутственного места открылось целое хозяйство, свое житье; хозяин был, по обыкновению, совершенно не в парадной форме. Поверх рубашки и панталон надета была та же шинель, которою он покрывался; на ногах были сапожные опорки с дырами, из которых выглядывали пальцы; на столе избитый самовар с проломанными боками и проч. и проч.
— Что вы изволите здесь делать? — спрашивал начальник.
— Живу…
— Служите?
— Писцом служу-с.
— Да-с… Да-с… Да-с.
Начальник помолчал, держа руки в карманах и закусив нижнюю губу, и потом произнес:
— Ну, не смею вам мешать! — И ушел.
Наутро Семену Матвеичу стоило великого труда одеться в панталоны, сапоги и напялить галстук. Делать было нечего, — звал новый начальник.
Когда Семен Матвеич вышел после аудиенции снова в толпу братии, к нему посыпались со всех сторон вопросы:
— Что? как?..
— Ничего…
— Не кричал?
— Ни-ни…
— И ласков?
— Такой рассыпчатый…
— Руку жал?
— Жал.
— Ну, стало быть, в шею!
Когда действительно это предсказание сбылось, Семен Матвеич вдруг почувствовал, что рука, которую жал начальник, словно отвалилась или кто отсек ее.
Через неделю после аудиенции на пепелище Семена Матвеича суетилось несколько поденщиков из отставных солдат с искалеченными членами после битвы при Синопе и, вооружившись метлами, скребками, швабрами, старались очистить глыбы грязи, которую по всему огромному пространству комнаты расплодил недавний ее обитатель.
Чтобы покончить с Семеном Матвеичем, скажу, что он поселился где-то за заставой, в лачужке, и принимал заклады, А когда всемирный потоп прошел и животные были выпущены из ковчега, то и Семен Матвеич, сознав, что он ничуть не хуже любого из них, выполз и начал проситься на службу опять…
9
Иван Матвеич Руднев был в большом загоне. Обстоятельства, видимо, переменились, и сама судьба смеялась над ним: каково было видеть его мягкой и легко растрогиваемой душе, когда толпы мужиков, так недавно приходившие не иначе как к нему, теперь идут с обнаженными головами к другому секретарю, проживающему напротив дома Руднева. Секретарь был из новых, был холост, танцор и имел за душой какую-то темную историю с одной девицей, не допущенной, впрочем, к подаче жалобы на секретаря в уголовную палату. Отставной секретарь терзался: совесть его была чиста; как голуби ворковали они с супругой десятки лет, но увы, наворковали много детей!
Отставной секретарь сразу съежился; правда, у него были небольшие залежные деньжонки, но так как, на виду у него, денежный поток направился совершенно в другое бездонное море нового секретарского кармана, то Иван Матвеич считал долгом подкрепиться маленько и отдал поэтому внаем полдома… Кроме нового секретаря, его весьма убивала возраставшая год от году семья. Рудневу стоило больших усилий настроить себя на радостный манер при всякой новой прибыли. Каких трудов стоило переносить ему утешения и радости родни, являвшейся на каждые крестины с одними и теми же фразами:
— Вельможа будет… Не забудьте нас… — говорил попрежнему родственник.
— Дитя есть мягкий воск! — повторял священник.
Дети, которым суждено было жить в эту пору загона отца, не могли рассчитывать даже на самый незначительный уход. С первых дней последний сын Петр видел, что на него смотрят как на обузу. Для него не разыскивали лучших и самых свежих кормилиц, не покупалось новых люлек, не покупалось игрушек; все было старое, — из-под кроватей, из-под шкафов вытаскивались лошади с оторванными ногами, хвостами и головами, люльку не смазывали даже в петлях, чтобы она не скрипела, — а вместо кормилицы кормили с рожка, поручив Петрушу и процесс ухода за ним старухе няньке, исполнявшей вместе с тем и должность кухарки. И так как ей поэтому нельзя было разорваться, чтобы успеть и за ребенком ходить и в кухне стряпать, то Петруша большую часть детства провел в кухне.
Здесь постоянно стоял столбом чад и царствовал горячий, удушливый воздух, под люлькой Петруши пищали гусенята, рядом на логовище няньки вывелись кошки, и вместе с этой народившейся мелюзгой жил и развивался Петруша… Над ним нянька не рассказывала сказок, в которых люди ходят в золоте, все счастливы и довольны, — ей некогда было; Петруша должен быть благодарен и за то, что она хоть укачивала его иногда по вечерам, при свете сального огарка. Закачивая Петрушу, старуха рассказывала ему свое прежнее житье. Рассказывая свою жизнь, старуха иногда брала ручонку Пети и, отыскивая ею под повойником большую яму на своей голове, говорила:
— Видишь, как господа-то? Это утюгом мне… Да что, так ли тиранили!.. По двенадцатому году было, барыня пойдет гулять зимой в мороз, а я за ней босиком иди… Подожмешь ногу, потопчешься, — идешь… Мочи нет… А она видит и нарочно по вершочку шаги делает… Не стерпишь, покатишься по земи замертво…
Сердце Петрушино болело за старуху.
— Терпела я, терпела, — рассказывала старуха в другой раз, — нету моей моченьки, вскочила чуть свет, — сбежала… куда бегу, сама не знаю. Иду босыми ногами, в одной затрапезной рубашке да юбке, по снегу, по сугробам… Нету дороги, — думаю: замерзну. Пришла к речке — дорожка санная, вижу, чернеет, — к ночи дело шло, и прорубь прорублена, — стала над прорубью, — думаю, утону… пущай утоплюсь, некому жалеть… Вдруг санки, священник едет… «Что ты дрожишь?» — Так и так. «Садись, дура…» — «Батюшка, увезите меня куда-нибудь… барыня узнает, убьет…» — «Садись, дурища…» Села я в сани, приехали в город, отыскали мне место такое, что лучше и не надо… Только спустя здак полгода, под самое рождество, хожу я с хозяйкой по базару за покупками, — вижу, барыня… Так я и обмерла: ноги, руки затряслись… — «А, шлюха, садись!» — закричала барыня. Я нейду; взяли силком, сбуторили, ввалили в сани, привезли домой… били, били… Тут мне и голову-то прошибли. Вот они, люди-то, каторжные!
Петруша только и слышал такие рассказы… Он жил в кухне вместе с народом, который работал для господ, и об них, следовательно, думал и говорил не так, как они. Здесь, кроме вековечной труженицы-няньки, все окружавшие Петрушу имели в своем прошлом одно и то же горе и жили одной надеждой на будущее; кучера, горничные, — все это на глазах Петруши думало и гадало о своей каторжной участи, и все были обижены, только не своей братией.
Призор няньки продолжался до тех пор, пока Петруша не выучился сам бегать и сам не находил для себя занятия. Петруша на свободе забавлялся как умел. Отыскав какой-нибудь старый завалящий сапог, он находил удовольствие в темном уголку напяливать его на свою ножку и в таком костюме медленно путешествовал по двору. Друзьями его, как и всегда, были уж никак не чиновничьи ребятишки, а кучер или дворник. Петруша все больше и больше привыкал понимать мужицкие боли и все больше и больше отбивался от дому. Кучер иногда доставлял Петруше удовольствие: носил его на руках под качели, кормил пряниками, водил даже в театр.
Мать Петруши, давным-давно до бесконечности утомленная детьми, точно так же как и отец, рада была, что их меньше ползает в комнатах, и поэтому вспоминала о Петруше только тогда, когда слышала его пронзительный плач где-нибудь в заднем углу двора, плач, продолжавшийся несколько времени. Только тогда она говорила: