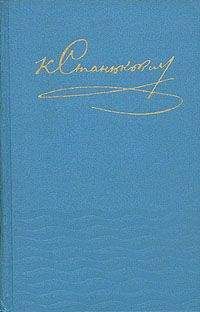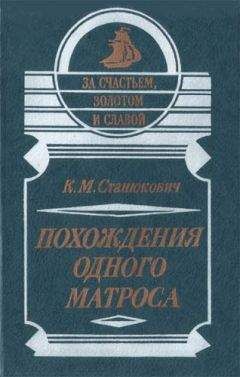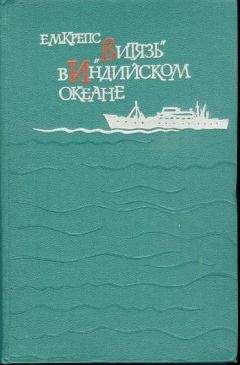На целых две минуты разницы.
К общему удивлению, старший офицер даже не выругался, а только значительно потряс кулаком на грот-марс.
— Ну и здоровая же будет сегодня лупцовка, братцы! — прошептал на марсе пожилой и с виду «отчаянный» фор-марсовый Кирюшкин.
Кирюшкин проговорил эти слова с философским равнодушием, казалось бы несколько удивительным, по крайней мере в человеке, не сомневавшемся в предстоявшей «лупцовке». Но он недаром считался «отчаянным». Часто наказываемый за неумеренное пьянство на берегу, он ожесточился и считал ниже своего достоинства выказывать страх.
Все марсовые, бывшие на марсе в ожидании команды «С марсов долой!» — выслушали Кирюшкина в угрюмом молчании, с видом покорной подавленности.
Только один молодой матросик, бывший на службе всего второй год, небольшого роста, худощавенький и «щуплый», как говорили про него матросы, характерно определяя его тонкую, недостаточно, казалось, крепкую, статную фигурку, внезапно стал белее рубашки, и взгляд его больших серых, необыкновенно добродушных глаз остановился на Кирюшкине с выражением ужаса и страха.
— Разве будут драть? — испуганно спросил матросик.
— А ты, Чайкин, думал, по чарке водки дадут! — насмешливо ответил Кирюшкин. — Небось форменно отполируют. «Долговязый» шутить не любит.
— И всех?
— Обязательно… Чтоб никому не было обидно!.. Да ты что нюни-то распустил с перепуги? А еще матрос! — сердито промолвил Кирюшкин.
— Чайкина еще никогда не драли. Ему и боязно! — заметил кто-то.
— А может, Иваныч, нас драть не будут?
— Небось будут! — уверенно и спокойно проговорил Кирюшкин.
Но, взглянув на испуганное лицо молодого матроса, прибавил почти что ласково:
— Да ты не обескураживайся, Чайкин… Не стоит! Много «Долговязый» не назначит.
В эту минуту с мостика раздалась команда:
— С марсов и салингов долой!
— Вот сейчас и учению конец и шлифовка будет! — словно бы довольный ее близостью, проговорил Кирюшкин и вместе с другими стал спускаться бегом по вантам.
Действительно, учение скоро окончилось, и старший офицер, подозвав боцмана, сказал:
— Грот-марсовых на бак! Двух унтер-офицеров с линьками!
— Есть, ваше благородие!
Боцман отошел от мостика и, направляясь на бак, крикнул:
— Грот-марсовые на бак!
А Кирюшкин тем временем говорил двум унтер-офицерам:
— Чайкина пожалейте, братцы: он щуплый.
Через минуту-другую среди внезапно наступившего на клипере угрюмого молчания кучка грот-марсовых выстроилась на баке с Кирюшкиным на фланге.
Вслед за тем пришел старший офицер.
При виде этой кучки людей он почувствовал злобу к ним, как к виновникам того, что «Проворный», так сказать, «опозорился», а вместе с ним и он, старший офицер, у которого могли на две минуты опоздать с переменою марселя. В его глазах это казалось ужасным, и долг службы требовал, чтобы были наказанные. Но так как трудно было разобрать, по чьей именно вине вышла заминка, то наказаны должны быть все, не исключая и марсового старшины.
Чайкин смотрел перед собою в каком-то оцепенении от страха. Выражение ужаса застыло в его больших глазах с расширенными зрачками. Он по временам вздрагивал всем своим тщедушным телом. И побелевшие, трясущиеся его губы неслышно шептали одни и те же слова:
— Господи Иисусе, пресвятая богородица! Господи Иисусе, пресвятая богородица!
И в голове его внезапно пронеслись воспоминания о далекой деревне, где ему было так хорошо и где его никогда не секли и дома редко били. Он был всегда старательный, работящий парень. И на службе, кажется, старается, из кожи лезет вон.
Молодой матросик отвел взор.
О господи, как было хорошо кругом!
Солнце, ослепительное и жгучее, так весело глядело сверху, с высоты бирюзового далекого неба, на котором ни облачка, и заливало блеском и город, сверкавший своими домами и зеленью на склоне горы под пиками сиер, и большой рейд с кораблями и сновавшими пароходиками и шлюпками, и кудряво-зеленые островки, и палубу «Проворного», играя лучами на пушках, на меди люков и кнехтов и на обнаженном теле Кирюшкина. Звуки музыки, веселые, жизнерадостные, доносились с большого белого двухэтажного, полного пассажирами парохода, который проходил невдалеке, направляясь из Сан-Франциско к одному из зеленых островов в глубине бухты. Белоснежные чайки реяли в воздухе и весело покрикивали, гоняясь одна за другою.
Все кругом жило, радовалось, сверкало под горячими лучами солнца, и все это представляло собой резкую противоположность тому злому, жестокому и страшному, что должно было сейчас произойти на баке «Проворного».
Молодой матрос почувствовал это, и тоска, щемящая, жуткая тоска охватила его замирающее от страха сердце.
И он снова зашептал:
— Господи Иисусе! Пресвятая богородица!
1
Дня через два, тотчас же после обеда, боцман засвистал в дудку и, нагнувшись над люком жилой палубы, крикнул:
— Вторая вахта на берег! Живо!
Но о «живости» нечего было и говорить. Обрадованные, что урвутся на берег и хоть несколько часов будут в другой обстановке, матросы второй вахты торопливо мылись, брились, надевали чистые рубахи и сапоги и доставали из своих чемоданчиков деньги.
Кирюшкин сунул в карман штанов единственный имевшийся у него доллар, предвкушая удовольствие весь его пропить. Чайкин, не пивший своей ежедневной казенной чарки и получавший за нее деньги, бережно завязал в угол платка английский золотой и, кроме того, спрятал в карман еще два доллара — все свои капиталы, рассчитывая на берегу купить себе фуфайку, две матросские рубахи, нож и какой-нибудь гостинец, в виде платка, для матери. Он был ее любимцем и не забыл еще материнских ласк, не забыл беспредельного горя старухи, когда ее Васютку взяли в рекруты. В прежние времена служба солдата и матроса была долгая, двадцать пять лет, и потому матери, расстававшиеся с сыновьями-солдатами, прощались с ними навсегда. Больше не для кого было Чайкину припасать гостинцы в деревню: жена его умерла за месяц до того, как его взяли на службу; отца тоже в живых не было, два брата жили в городе, и Чайкин их почти не знал.
Рассчитывал Чайкин тоже и походить по городу, посмотреть на людей, которые, по рассказам старых матросов, прежде бывавших в Сан-Франциско, живут вольно и хорошо, и погулять в городском саду. Один земляк-матрос, ездивший на берег в первой смене, сказывал Чайкину что там очень хорошо и музыка играет, и Чайкин, большой охотник слушать музыку, хотел непременно побывать в саду, если найдет его. Вином молодой матрос еще «не занимался». Он хмелел после двух-трех рюмок водки и, главное, очень боялся вернуться на клипер в пьяном виде. Хотя взыскивали только с тех матросов, которые напивались до того, что их приходилось со шлюпки поднимать на клипер на веревке, но все-таки Чайкин остерегался. Однако стакан-другой пива он рассчитывал выпить. А то какая же иначе гулянка!
— Ну, что, Вась, собрался? — спросил Кирюшкин, подходя к молодому матросу, принарядившемуся для «берега».
— Да, Иваныч, любопытно съездить…
— Скажу я тебе, Чайкин, матрос ты во всем форменный, а линьков боишься, дух в тебе трусливый. Тебе бы на «Голубчике» служить: там другое положение, там, Вась, командир жалостливый. Тебе, по твоему виду, надо у жалостливых командиров служить, вот что. А завтра меня опять отдерут! — усмехнувшись, неожиданно прибавил Кирюшкин.
— За что?
— А за то, что я сегодня напьюсь! Вот за что!
— Ты бы, Иваныч, полегче! — робко и в то же время сердечно промолвил Чайкин, благодарный Кирюшкину за его заступничество два дня тому назад.
Эти участливые слова молодого матроса, эти кроткие, благодарные глаза тронули бесшабашного пропойцу. И он, постоянный ругатель, не говоривший почти ни с кем ласково и готовый облаять всякого, не только не рассердился на замечание Чайкина и не обругал его, а напротив, взгляд его темных глаз, обыкновенно суровый, теперь светился нежностью, когда он, понижая голос, проговорил:
— То-то, никак невозможно, Вась. Такая есть причина! А тебе я любя скажу: не приучайся ты к этому самому винищу, не жри его… Ну, а я…
Он не докончил речи, как-то горько усмехнулся и, снова принимая свой ухарский вид, прибавил:
— Однако нечего лясы точить. Валим, Чайкин, наверх!
Когда матросы были готовы и поставлены во фронт, старший офицер стал перед фронтом и сказал:
— К семи часам быть на пристани. В половине восьмого баркас отвалит. Кто опоздает и вернется на вольной шлюпке, тот получит сто линьков и в течение двух месяцев не будет отпущен на берег… Слышите?
— Слушаем, ваше благородие! — отвечали матросы.
— Ну, а ты, Кирюшкин, помни, — продолжал старший офицер, подойдя вплотную к Кирюшкину, — если опять напьешься, под суд отдам… Сгниешь в арестантских ротах… Не забудь этого, разбойник!