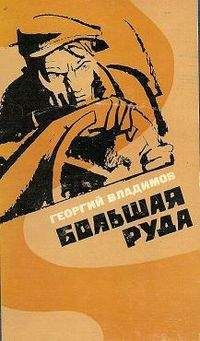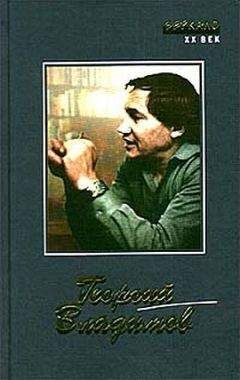Пронякин «подставился» и снова вылез — так полагалось по инструкции, на тот случай, если машинист промахнется и заденет ковшом по кабине, — и стал наблюдать, как тяжелый ковш, опускаясь, качается над его машиной, готовой закряхтеть и грузно осесть на рессоры. Ковш покачался и замер на мгновение. Его нижняя челюсть вдруг отвалилась бессильно, и грунт посыпался с тугим грохотом. Машина осела слегка. Но Антон не сразу отвел стрелу, он задрал ее выше, чтобы высыпать еще несколько пудов глины, приставшей к закраинам стенок.
— Есть у тебя совесть, Антон? — закричал Пронякин, впрочем, только так, для порядка.
— А как же, — сказал Антон и дал длинный гудок. — Не вякай под руку, отъезжай.
Пронякин сел и, не закрывая дверцу, чтобы смотреть назад и под колеса, повел машину к выезду из карьера. Так он начал свой первый рейс.
К выезду вели метров семьдесят ухабистой дороги, проложенной по камню, по глине и песку, и затем песчаная разноцветная лента, извивающаяся по крутостям склона. Где-то на верхних горизонтах она переходила в бетонку. Перед глазами Пронякина маячил темно-зеленый «ЯАЗ» Федьки Маковозова. И по тому, что он слышал Федькин двигатель сквозь шум своего, Пронякин понял, что его «МАЗ» идет несравненно легче и что есть шанс немедленно «ободрать» Федьку. Сантиметр за сантиметром он подбирался к Федьке и наконец поравнялся. Федька что-то напевал с набитым ртом, откусывая от черной краюхи, и, увидев рядом лицо Пронякина, весело подмигнул. Затем на его лице — всегда полусонном, с вывернутыми губами и помидорным румянцем отразилось беспокойство. Рука незаметно упала с баранки вниз, машина взревела и окуталась дымом, но это уже не помогло ей догнать уходящего Пронякина.
Пронякин оглянулся и сделал Федьке ручкой, Федька сердито шевелил губами за ветровым стеклом и сверлил пальцем висок.
— Мне же двадцать две ходки… — так же беззвучно объяснил Пронякин и показал на пальцах.
Федька хлопнул по лбу ладонью и показал вниз, на обрыв. Тогда Пронякин все понял. Он обогнал на таком участке дороги, где Федькина машина оказывалась с краю. Он сделал извиняющееся лицо и сбавил обороты, пропуская Федьку вперед. Но тут Федька и вовсе рассвирепел и, высунувшись чуть не до пояса, заорал:
— Куда ты пятишься, дура?! Куда? Уж ободрал, так не осаживай! Пшел вперед, душа с тебя вон…
Пронякин усмехнулся и легко оставил его позади.
Теперь перед ним покачивался и прыгал номер «БЕА 13–48». Но он еще не запомнил всех номеров и, лишь зайдя сбоку, узнал по сварному шву на кузове машину Косичкина. Он был самым опытным в бригаде, этот морщинистый и желтолицый, как старый японец, Косичкин. За глаза его так и называли «японец». И всегда он был чем-нибудь недоволен. Здесь, на руднике, ему не нравилось. Не нравилось — и все. Собственный «ЯАЗ» ему не нравился. И шампанское ему тоже не нравилось, хотя он выпил все до капли. А нравилось ему вспоминать, как он служил на пожарной машине в маленьком городишке под Харьковом, и как его знал весь городишко, и что это была за работа. Раз в сутки он мчался, как угорелый, и показывал свой первый класс, а в остальное время лежал под машиной, приладив руки веревочной петлей к подмоторной раме, и спал. Или предавался размышлениям. Все проходившие мимо думали, что он там что-нибудь починяет, и изумлялись его трудолюбию. И еще, как он похвалился в «зверинце», за всю жизнь он не задавил даже курицы. Но вот нелегкая однажды вытащила его из-под машины и привела на этот карьер. И держит здесь, хотя ему все не нравится.
Пронякин подобрался к нему вплотную и стал обходить, повторяя свой маневр. Он увидел недовольно сморщенный лоб Косичкина, точно у того болел живот, и, сделав виноватое лицо, слегка осадил назад.
— Но-но-но! — закричал Косичкин и погрозил согнутым пальцем. — Ишь, закаруселил, циркач! Не на бульваре гарцуешь. С дамочкой. Шагом марш вперед, если тебе нравится!
— Слушаюсь, — сказал Пронякин.
— А будешь гарцевать, молодой человек… — начал Косичкин наставительно, но так Пронякин и не узнал, что станет с ним, если он будет гарцевать.
На втором витке дороги он достал Прохора Меняйло. Тот сидел, откинувшись, возложив на баранку худые ширококостные руки и вперив вдаль озабоченный взгляд. У него были нестерпимо голубые глаза курянина. А за ухом торчала папироса. Неизвестно было, когда он ее выкуривает, но она всегда торчала у него за ухом. И всегда он был молчалив и сумрачен, и вертикальная складка резала его лоб с глубокими залысинами. Впрочем, Пронякин его понимал. Когда у тебя трое ребятишек и беременная жена, это располагает к глубокомыслию.
Пронякин стал обгонять, оглядываясь, спрашивая глазами, и Меняйло так же молча кивнул.
Чем выше, тем ровней и положе становилась дорога, и Пронякин, уверенно прибавив скорости, стал догонять Гену Выхристюка. Гена из Мелитополя почему-то нервничал. Он вихлял кормой и то и дело высовывался, отчаянно вертя стриженой головой на тонкой шее. Пронякин не знал, с какого боку к нему подступиться. Он посигналил Гене, тот рассмеялся в ответ и выпустил из-под кормы шлейф дыма. Иссиня-черные клубы окутали кабину «МАЗа». Пронякин тоже рассмеялся и выругался, но осаживать не стал. На его счастье, по деревянной лестнице с третьего горизонта на второй спускалась женщина в синей стеганке, с малиновой папкой под мышкой. Должно быть, она принесла ее из конторы кому-нибудь из инженеров. Она остановилась, пропуская машины, и ее загорелые колени оказались как раз на уровне Выхристюковых глаз. Гена моментально исчез в кабине, и тотчас заскрежетали тормоза. Пронякин чудом на него не налетел.
— Эй, куряночка! — закричал Выхристюк, высовываясь до пояса. Он оставил пиджак в кабине, и на нем поверх свитера зеленели подтяжки. — Садись, подвезу!
Он смотрел на нее с обожанием. Она тоже смотрела на него, кусая губы, чтобы не рассмеяться, и прихлопывая раздуваемую ветром юбку.
— Садись, а то ножки заболят! — сказал Гена заботливо и хрипло. Ай-ай-ай, такие ножки и вдруг — заболят!
Остального Пронякин уже не видел. Опомнившись, Гена закричал ему вслед:
— Ты что? Ты куда? Ты почему?!
«И чего шумят, спрашивается? — удивился Пронякин. — Знают же, что мне никак нельзя без обгона, и — шумят. Хотя, конечно, их тоже понять можно. Неприятно, когда обгоняют. Я бы и сам, наверное, пошумел».
Дальше пошла бетонка; Пронякин еще прибавил скорости и наконец его латаный и чиненый «МАЗ» подкрался к первому самосвалу в бригаде. Первым шел Мацуев, и покуда Пронякин решил его не обгонять. Он шел чуть сзади и сбоку, стараясь все время видеть тяжелый подбородок и скулу водителя, но тут сам Мацуев, обернувшись, заулыбался и сделал приглашающий жест — проходи!
Несколько секунд Пронякин делал вид, что не понимает его, и все так же почтительно шел на треть корпуса позади. Тогда Мацуев высунулся и крикнул:
— Чего топчешься? Проходи, тебе же больше всех надо!
Он ничего такого не имел в виду, он просто хотел сказать, что Пронякин на своей легкой машине, бравшей один ковш грунта, должен сделать на семь ходок больше, чем они на своих тяжелых, бравших по два ковша. Пронякин же понял его по-своему и усмехнулся.
— Не будем спорить, папаша, — пробормотал он громко в своей кабине, — кому больше надо, тебе или мне. А вот как я их сделаю, лишние-то семь ходок? Что бы ты мне насчет этого посоветовал, а?
Он увеличил подачу топлива до предела и на полной скорости прошел выездную траншею и участок перед конторой, обогнав еще три или четыре машины, которые возили грунт с верхних горизонтов. Затем дорога круто поворачивала к отвалу. Это была настоящая бетонка, с частыми температурными швами, которые увеличивали сцепление, и достаточно широкая даже для трех машин в ряд. Люди этой дорогой не ходили, а машины двигались с большими интервалами, и он мог маневрировать, резко забирая влево, а при случае рискнуть и на двойной обгон.
Его руки и ступни делали свое дело, а мозг работал отдельно от них, спокойно и четко. Здесь, решил он, будет главный его козырь, на этих трех километрах он сможет обгонять по десять, а потом, быть может, и по двадцать машин в рейс. Если он выиграл гонку с трехосными «ЯАЗами» на дороге вверх, тогда ему и карты в руки на ровной прямой, где два ковша говорят свое веское слово, а лишняя ось уже не имеет значения. Теперь следовало подумать, что можно выиграть на отвале.
Вскрышную породу сбрасывали в глубокий овраг с крутыми склонами, поросшими блеклой травой. На дне оврага росли невырубленные березы и старый орешник; верхушки их едва достигали края помоста, на который задним ходом въезжали машины, и, когда сыпался грунт, слышны были треск ветвей и шорох сминаемой листвы. Он видел, как туго приходится этим деревьям, которым уже не суждено было пробиться сквозь толщу грунта. Но думал он не об этом.
Короткий кузов его машины поднимался ничуть не быстрее, чем у «ЯАЗов», и, кроме того, он не имел скоса на заднем борту, поэтому его приходилось поднимать выше. Правда, задний борт у него откидывался, но из-за этого нужно было дважды выходить из кабины — сначала открыть щеколду борта, затем вернуться в кабину, чтобы поднять и опустить кузов, затем снова идти закрывать щеколду и только после этого трогаться в путь. «МАЗ» был из первых выпусков, когда еще не придумали шарнирный запор с продольной тягой и рукояткой возле самой кабины, и Пронякин терял на этом три минуты — почти столько же, сколько выигрывал в гонке. Он хотел наверстать эти минуты на обратном пути, но порожний он уже не имел преимущества перед порожними «ЯАЗами».